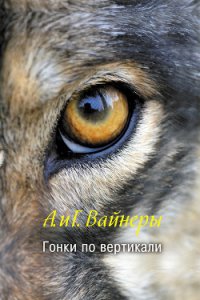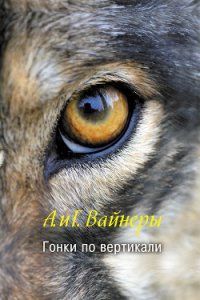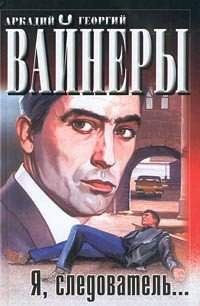Лекарство против страха - Вайнер Аркадий Александрович (серия книг .TXT) 📗
— Давно вы знакомы?
— Тысячу лет. Она ведь работала сначала у Благолепова, а теперь в институте у Панафидина. Дался он ей, черт бы его побрал совсем!
— Кто — Панафидин?
— Ну конечно! Не сложилась у нее жизнь…
— В каком смысле?
— Она ведь вышла замуж совсем еще девчонкой. Мужа ее я раза два видел — мрачный такой, молчаливый дядя, лет на пятнадцать старше ее. Он меня очень удивил на Анином банкете по поводу защиты кандидатской: за весь вечер умудрился не сказать ни единого слова.
— Да, я его знаю, — кивнул я и представил муки Позднякова на банкете по поводу того, что жена стала наконец признанным ученым, таким же, как все собравшиеся там ее товарищи — очень грамотные, речистые, веселые, совсем недисциплинированные и весьма подозрительные на разгильдяйство.
— Тогда вам понятно, как трудно было веселой, озорной Анечке ужиться с таким бирюком. — Хлебников говорил о легком, приятном нраве Желонкиной как о вещи самоочевидной, и я подумал, что, наверное, мы все ходим по какому-то кольцу Мёбиуса, где в разных поворотах пространства исчезают для досужего глаза отдельные стороны нашего характера, и выглядим мы со стороны однобокими, плоскими как камбалы, и за этим непреодолимым для равнодушного чужого глаза барьером бьется наша жизнь, вполне объемная и, к счастью, многосторонняя, и всегда находятся люди, которым все эти грани хорошо видны. — Да-а, как я понимаю, там никогда особой любви не было, но жили нормально, девчушка у них есть маленькая…
— Этой девчушке сейчас двадцать лет, — заметил я.
— Не может быть! — удивился Хлебников. — Подумайте, как время быстро промчалось — тогда ей было лет пять-шесть…
— Когда это — «тогда»?
— Когда появился Панафидин. Он был еще холост и хорош собой, как дьявол. — Хлебников говорил о привлекательности Панафидина с безразличным спокойствием человека, никогда не пользовавшегося успехом у женщин. — Ну и, конечно, этот апломб, искренне неколебимое сознание своей исключительности — короче говоря, Аня от него просто рассудок потеряла.
— А что Панафидин?
— Она ему очень нравилась. Чужая душа потемки, но я думаю, что больше он уже и не встретил женщины, которая ему была бы так нужна. Но тогда в нем Янус разбушевался — ему надо диссертацию делать, а он уведет из семьи замужнюю женщину, это ведь чепе, аморалка, персональное дело — в те времена по-другому на такие вещи смотрели…
Я вспомнил, как сверкали глаза Желонкиной, когда она встала на защиту Панафидина, стоило мне о нем сказать неуважительно лишь два слова.
— … И женился он на Олечке Благолеповой. А вскоре защитился и ушел в Исследовательский центр…
— Но если Желонкина не любила своего мужа, почему она хотя бы после не развелась с ним? Ведь она была еще совсем молодая женщина и могла по-другому устроить свою жизнь?
— Ну, сами понимаете, что с такими вопросами не оченьто ловко приставать. Но однажды мы разговорились, и Аня мне заявила, что если бы она оставила своего мужа, то зло, которое ей причинил Панафидин, было бы сразу удвоено — потому что она сама причинила бы зло хорошему человеку, — и эта волна горечи и зла катилась бы по миру, все время усиливаясь и захватывая совсем непричастных людей. Вы это можете понять?
— В какой-то мере.
— Но жить с нелюбимым человеком — еще хуже. И ничего хорошего от таких вынужденных союзов не происходит.
— Нам с этим, наверное, не разобраться, — сказал я. — Скажите, Лев Сергеевич, мне нельзя заглянуть ненадолго к Лыжину в палату?
— Я сейчас иду к нему. Могу вас впустить на несколько минут…
Лыжин спал. Неглубоко. Где-то совсем у кромки яви забылся он в трепетном сне. Заострилось пожелтевшее лицо, легкие волосы, словно взрывом, разбросаны на белом квадрате подушки. Синяя жилка бьется на прозрачной шее. Заскрипел под ногами Хлебникова пол, веки Лыжина дрогнули, на мгновенье приоткрылись, и глаза его были ясны, светлы, полны мысли, и плыла в них голубым корабликом радость. Он шевельнул губами, и я еле расслышал:
— … Соединены мы все хрупкостью этого прекрасного солнечного мира… — и сразу же исчез во сне, как в ночи.
Около трех часов я подъехал на троллейбусе к управлению, и, как только вышел на тротуар, хлынул холодный октябрьский дождь. Скачущими заячьими прыжками бросился я к воротам, стараясь поплотнее завернуться в плащ, но ехидные обжигающие струйки уже потекли за ворот и в рукава.
Рядом с проходной стоял Поздняков. Он-то как раз в плащ не кутался и даже кепку почему-то держал в руках. Его светлые волосы намокли прядками и потемнели, как осенняя солома на стерне. Прозрачные капли бежали по лицу, обтекали подбородок и скатывались за воротник рубашки.
— Что ж вы ждете меня на улице? — крикнул я ему на бегу. Он застенчиво пожал плечами, пожевал верхней длинной губой, сказал глухо, растерянно:
— У меня ведь удостоверения нет…
Пришлось нам под дождем огибать снова все наше огромное здание и в корпусе «А» выписывать в бюро пропусков на мое удостоверение пропуск для Позднякова. И оттого у меня испортилось настроение, наверное, что весь я насквозь вымок, а главное — невольно стал свидетелем и участником процедуры, совершенно обычной для всякого человека, идущего в охраняемое учреждение, но для Позднякова мучительной, остро унижающей его профессиональное достоинство, ставящей его на одну доску со всякими недисциплинированными разгильдяями, которых приходится вызывать на Петровку, 38, и стоят они у окошка, мнут в руках паспорта, дожидаясь, пока выпишут им в нумерованной книге двойной, с отрывным корешком пропуск с указанием в нем, к кому и в какое время идет человек.
Мы поднялись на пятый этаж, пришли ко мне в кабинет, скинули мокрые плащи, я сел нарочно не за стол, а рядом с Поздняковым на свободный стул, чтобы не выходило, будто он у меня на допросе. Да и допрашивать его мне было не о чем, а у Позднякова, видимо, не было охоты разговаривать. Он спросил только:
— Курить можно? — затянулся сигаретой «Прима», положил ногу на ногу и стал смотреть в окно, залитое струями серого дождя. И хотя сидел он нога на ногу, все равно не было в его позе свободы и раскованности, даже крошечной капли разгильдяйства, а было только покорное равнодушие очень утомленного человека.
Я позвонил Тамаре и попросил доложить генералу, что прошу принять нас с Поздняковым. Несколько мгновений в трубке шоркало безмолвие, потом она сказал:
— Шеф вас ждет в пятнадцать тридцать.
Поздняков, не оборачиваясь, продолжал смотреть в окно, но по тому, как медленно, тяжело двигалась кожа на его худом затылке, я видел, что он напряженно слушал, о чем я говорил, и кожа на шее у него постепенно наливалась кровью гнева — наверное, он счел, что я провел расследование не в его пользу. И я был охотно сказал ему, но ведь Шарапов мне не дал точного ответа, и я боялся поселить в душе Позднякова несостоятельные надежды: нынешняя неизвестность была все-таки лучше возможного разочарования.
Поздняков неожиданно повернулся ко мне и сказал:
— Вот вспомнил почему-то историю я давнюю, с дружком одним моим случилась. Охотник он был. Пустяковый, конечно, так, для физкультуры с ружьишком размяться. И держал песика — фокстерьера. Видели, наверное, таких — маленький сам, лохматый, мордочка квадратная. Выдающейся отваги и ума собачка — она и медведя не боится.
Поздняков выпустил синеватое облачко дыма, отвернулся к окну и замолчал, будто забыл конец истории. Я тоже помолчал, потом спросил:
— И что же произошло с приятелем и фокстерьером?
Поздняков взглянул на меня искоса, отогнал папиросный дым от глаз и с ожесточением растер окурок в пепельнице.
— Глупость вышла! — сказал он с сердцем. — Облаял пес нору на склоне оврага, а парень по неграмотности своей охотничьей решил, что это лисья, и погнал фокса в нору. А тот сказать не может и не подчиниться права не имеет — у собак с дисциплиной строго, — вот он и полез в нору…
Поздняков снова замолчал, и я видел, что он молчит не для того, чтобы заострить мой слушательский интерес, а просто вновь возвращается к той давней истории с дисциплинированной собакой, подвергая мысленной ревизии этот пустяковый охотничий эпизод и, видимо, пытаясь связать свое нынешнее положение — на примере с собакой, а может быть, с охотником, мне это было пока неясно, — с общими рассуждениями о последствиях добросовестного исполнения служебного долга.