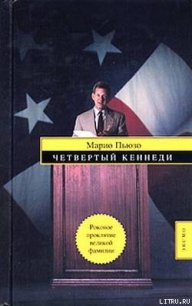Последний бог - Леонтьев Антон Валерьевич (книги txt) 📗
Прагматик же Мстислав Всеволжский понимал: в новой России не найдется места ни ему, буржуазному философу, ни его жене, бывшей полусумасшедшей поэтессе. Поэтому в первые дни нового, восемнадцатого, года они покинули Петроград, направившись в Финляндию, а оттуда в Швецию. Потом некоторое время супруги блуждали по Европе, пока наконец не осели в Берлине. А через два года перебрались в Париж.
Философа Всеволжского чтили во Франции, его жена была иконой для литераторов. Им удалось вывезти драгоценности Семирамиды Пегас, а одно крупное парижское издательство тотчас пожелало выпустить в свет сочинения Мстислава. Одним словом, денежных затруднений чета не знала и купила особняк в Шестнадцатом округе.
Николай (Всеволжскому удалось-таки убедить жену забыть о смешном и совершенно чуждом французскому уху имени Смертобор) рос тихим, послушным и способным ребенком, схватывавшим все на лету. Когда семья жила в Берлине и Гамбурге, мальчик начал лопотать по-немецки, а в Париже быстро заговорил по-французски. Семирамида Пегас нарадоваться не могла на своего сына, который был для нее всем в жизни.
Историю своего появления на свет Николай знал с самого детства – Семирамида (именовать поэтессу «мамой» было строжайше запрещено, это противоречило новейшим методикам воспитания) каждый день рассказывала ему о том, как Великий Дух Неба подарил ей ребеночка на кладбище. И поэтому мальчика с ранних лет мучил один и тот же кошмар, приходивший с завидной регулярностью, от которого ребенок просыпался в холодном поту и с криком на устах. Николаю все казалось, что ни с того ни с сего он оказывается в каменном саркофаге, не может пошевелить ни ногами, ни руками, массивная крышка вдруг начинает с кошмарным скрежетом закрываться, он оказывается в кромешной темноте, грудь начинает разрываться от недостатка воздуха и... Затем всегда следовало пробуждение.
К тринадцати годам Николай превратился в тонкого мальчика, который обладал несомненным талантом подражания и склонностью как к естественным, так и гуманитарным наукам. Более всего ребенку нравилось ставить эксперименты – так, он ловил на улице бездомных котят, засовывал их в ящик, герметически закрывал его и засекал время, желая узнать, как скоро животные задохнутся. Смерть восхищала Николая – ведь он сам едва не умер в саркофаге, и, если бы не Семирамида, он, как те котята, просто бы сдох где-то на провинциальном кладбище.
Со временем мальчик разнообразил знакомство со смертью – он начал собирать жуков, бабочек, стрекоз и лишать их жизни разнообразными способами. Обнаружив в подвале особняка крысиное гнездо, он вытащил оттуда два десятка слепых розовых беспомощных крысят и долго играл в «патологоанатома», исследуя внутренности грызунов. Ему нравилось пробираться на рынок и ходить по рядам, где лежали головы свиней и коров. В музеях его привлекали заспиртованные уродцы, и к своему тринадцатому дню рождения (который отмечали 17 августа, вместе с днем рождения Семирамиды) он попросил отпустить его в анатомический театр – ему страстно хотелось присутствовать при вскрытии человеческого тела.
Семирамида, видя в своем сыне только хорошее, поощряла его страсть к анатомии. Всеволжский, однажды застав мальчика за тем, как он отрезал лапу мертвому щенку, считал ребенка маленьким садистом и относился к нему с неприязнью.
Осенью того же 1927 года Семирамида стала жаловаться на боли в груди и быструю утомляемость, но к медикам все не желала обращаться. И только под давлением супруга наконец-то посетила доктора. Как-то ненастным вечером поэтесса призвала к себе Николая. Она сидела в большом вольтеровском кресле около камина, закутанная в шотландский плед.
– Сын мой, я должна тебе кое-то сказать, – начала Семирамида Пегас заготовленную речь. – Ты уже большой и смышленый, поэтому не буду потчевать тебя глупыми сказками. Врачи обнаружили у меня опухоль молочной железы на запущенной стадии. Единственный выход – немедленная операция...
Николай впервые в жизни испытал душевную боль. Он никогда в том не признавался, но в действительности чрезвычайно любил Семирамиду. Это была не только любовь сына к матери, но и благодарность к той, что спасла его от смерти.
Мстислав Всеволжский, узнав о болезни жены, отнесся к известию с поразительным равнодушием. Николай знал, чем это объясняется: подросток однажды стал свидетелем того, как философ флиртует с молодой француженкой, своей секретаршей, что ежедневно приходила в особняк, дабы перепечатывать рукописи Всеволжского. Мальчик никогда не любил приемного отца, но после того, как узнал о его предательстве, откровенно возненавидел. Он подслушал разговор между философом и секретаршей – те собирались вступить в брак, требовалось лишь подождать смерти «старухи», как именовал Семирамиду Всеволжский. Развестись с ней он не мог, так как в таком случае утратил бы право на очень крупное состояние жены, доставшееся ей от отца, саратовского купца, и вовремя переведенное в европейский банк.
Поэтесса предчувствовала свою смерть и постоянно говорила о ней, поэтому, когда в особняк позвонили из больницы и сообщили, что Семирамида скончалась во время операции в результате остановки сердца, Николай подумал: тот же Великий Дух Неба, что дал ему жизнь, забрал к себе поэтессу.
Кончина Семирамиды была воспринята философом и его новой пассией с радостью. Всеволжский даже не изображал скорбь, а секретарша въехала в апартаменты поэтессы в день ее смерти. Николай во время погребения Семирамиды на кладбище Пер-Лашез (недалеко от могилы Бальзака) бросил Всеволжскому в лицо обвинение в том, что тот – лицемер и фарисей. Философ схватил мальчика за ухо, выкрутил его так, что Николай жалобно закричал, и сказал:
– Запомни, ты – подкидыш, и мне ты больше не нужен. В ближайшее время ты отправишься в интернат, подальше от Парижа!
Семирамиду Пегас провожали в последний путь многие эмигранты – среди тех представителей петербургского общества, кто бежал из Советской России на Запад, ее очень хорошо помнили. Мстислав Всеволжский был вынужден устроить в особняке поминки, хотя сам тотчас заперся на последнем этаже вместе с секретаршей.
Николай бродил по столовой, кишевшей людьми, в основном нуждавшимися в деньгах. Были там и бывшие генералы, превратившиеся в швейцаров, и аристократы, клянчившие подаяние на парижских улицах, и поэты, подрабатывавшие натурщиками, и прочая, и прочая, и прочая. Закусывая и выпивая, они предавались слезливым воспоминаниям, говорили о покойной, костерили большевиков и мечтали о скором возвращении на родину, прекрасно понимая, что мечты их – утопия.
Николай спустился на кухню, где находились гости попроще, тоже русские эмигранты, но из разряда мещан, чиновников и мелкого духовенства. Краем уха подросток услышал чей-то хриплый пропитой голос:
– Батюшка, грех ли это? Я ношу его в себе уже который год и так страдаю! Ой, и зачем я только тогда на деньги польстилась! Жальче всего мне мальчишечку, которого я в саркофаг положила. Такой ведь крохотулечка был...
Николай словно окаменел. Медленно повернувшись, он увидел рыхлую женщину неопределенного возраста с испитым багровым лицом и узкими заплывшими глазками. Она цеплялась за руку православного священника, который старался отпихнуть несчастную – она еле держалась на ногах от слишком большого количества спиртного, принятого внутрь.
– Дочь моя, тебе необходимо сначала проспаться! – отмахивался от нее священнослужитель. – И перестань донимать меня своими галлюцинациями! Ишь чего выдумала, отравительницей себя вообразила и детоубийцей! Впрочем, и не такое вообразишь, если целую бутылищу водки выпить!
Николай подошел ближе и почтительно спросил:
– Батюшка, кто эта женщина?
– Кажется, Настькой ее кличут. Или, может, Надькой, – поморщился священник. – Горькая пьяница она, а к тому же большая выдумщица. У нее, сын мой, белая горячка. Лечиться ей надо. Хотя уже поздно, не сегодня, так завтра богу душу отдаст.
Настька (или Надька) приставала со своими жалобами к другим гостям. Наконец к пьянчужке подошли слуги, желая выставить прочь. И всем она пыталась рассказать одно и то же – что ей было поручено убить ребенка, и она положила его в саркофаг.