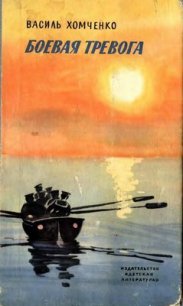При опознании — задержать - Хомченко Василий Фёдорович (полные книги TXT) 📗
Версии этой Слукин, конечно, не верил, однако занёс её в протокол допроса и все расспрашивал про эту женщину, пробовал запутать, поймать на мелочах. Силаев описал её внешность во всех подробностях, перечислил, во что была одета, даже нарисовал на бумаге её профиль — высокая, худая, густоволосая брюнетка…
Удивляло, что следователь не устроил ему очной ставки с Лопатиным, даже не прочитал его показания — тот, ясно, все рассказал. У Слукина были, безусловно, и другие свидетельства против Силаева, да придерживал их под конец, не предъявлял из каких-то тактических соображений и старался добиться признания самого Силаева. Как человек, ограниченный лишь интересами службы, он уверил себя, что его подопечный в конце концов не выдержит и даст требуемые показания. Слукину и его начальству не так важно было добиться у Силаева признания в вине — она и без того была доказана, — как получить сведения о других членах организации, не менее опасных для государства. В огромной государственной машине Слукин был лишь маленьким винтиком и крутился, делал то, что делала главная, центральная её часть — маховое колесо, приводившее в движение все остальные части машины, в том числе и винтики. Он не мог не крутиться, или крутиться в другую сторону, или в другом темпе, чем это колесо. Слукин был автомат, раб установленного порядка и движения и являлся подневольным, слепым исполнителем. По сути своей человек самый обыкновенный, со своими человеческими радостями, привязанностями, примерный отец двух детей, верный муж, он, как и все подданные великой России, желал ей расцвета, а народу — богатства и счастья (а кто этого не желает?). И если бы он вёл расследование, руководствуясь только собственной совестью, относился к Силаеву объективно, он бы, возможно, и остановился на версии взятой тем для своей защиты. Однако над Слукиным был начальник, более крупный винтик государственной машины, а у того начальника — ещё начальники так до самого высокого, главного, до того махового колёса, которое приводило в движение всю машину и крутилось туда, куда хотело. Вот этот самый главный — его величество — знал об организации народников-революционеров, боялся их больше, чем любого иноземного государства с могучей армией, и был в первую очередь заинтересован в том, чтобы искоренить и уничтожить их всех до одного. Потому и придавали такое большое значение этому делу, потому и старались так жандармы.
Слукин не вызывал в Силаеве неприязни, он привык к нему, порой тот бывал ему даже симпатичен и было его по-человечески жаль — бьётся, бьётся человек, начальство подгоняет, а дело ни с места. Случалось, что им обоим надоедал допрос и они разговаривали на далёкие от следствия темы. Вспоминали свою службу в кавалерии. Слукин, который также служил кавалеристом, рассказывал о своей дуэли — стрелялся с однополчанином из-за женщины. Оба поступили разумно — стреляли в воздух, помирились, и про дуэль начальство не узнало. «А недавно встретился с тем офицером, и отправились вместе с визитом к бывшей даме сердца, виновнице дуэли, — смеялся Слукин. — Дама наша теперь пудов семь весит».
Однажды, в такие вот мирные минуты, Слукин, невольно оглянувшись на дверь, обитую войлоком и кожей, тихо спросил:
— Скажите, как на духу, вы, революционеры, правда верите в революцию?
— Вся молодая Россия жаждет революции и верит, что она сбудется, — так же тихо ответил Силаев:
— И вместо монархии наступит народовластие?
— Обязательно наступит. Революция неотвратимо приближается.
— Ну, а что тогда будет с нами, с чиновниками, которые честно служат монарху и России? Поменяемся с вами местами?
— Видать, так, — усмехнулся Силаев.
— Неужели вы надеетесь пошатнуть и разрушить такую скалу, как наша держава?
— Разрушаются и скалы. Выветриваются, трескаются и разваливаются. Скале кажется, что она нерушима, монолитна, она не видит, что её подтачивают капли воды, снег, ветер, солнце…
Слукин резко встал, принялся ходить по кабинету, громко, нервно заговорил, сдерживая себя, чтобы не раскричаться.
— Вот это ваше стремление разрушить отчизну и есть самое главное преступление. Вам наплевать на судьбу родины — пусть разваливается Россия, лишь бы вам очутиться наверху, уцепиться за кормило власти, добиться своих эгоистических целей. Вас не судьба народа тревожит, вам нужна власть. Россия — великая, могущественная держава, с ней считаются, её уважают другие страны. А раз она великая, могучая держава, то в ней должна быть и могучая власть, собранная в один кулак… Вы хотите народу добра, так и приносите его, возделывайте ниву народного просвещения, изобретайте машины, которые облегчали бы людям труд. Бомбами добра не сделаешь, каждый сознательный русский должен быть патриотом России. Таких патриотов у нас много, на них и держится государство, они служат ему верой и правдой, стоят на страже его порядков, даже если им самим кое-что в этих порядках не нравится. Скажите, а в родном доме всегда всем нравятся порядки, заведённые отцом? Не всегда, но дети не прогоняют отцов, не разрушают семью… Революция, баррикады, бомбы, террор ещё никогда не приводили к гармонии в государстве и не приносили счастья народу. Общество движется к прогрессу постепенно. Вы же не будете оспаривать того, что теперешние порядки намного лучше тех, которые были у нас тридцать, двадцать лет назад. А через десять лет порядки станут ещё лучше. Так кому же выгодно разрушать Россию? Только не русскому человеку, не русскому народу.
— Всякая революция ускоряет процесс перемен в обществе, — осторожно заметил Силаев. — Революция — толчок.
— Ускоряет, но с какими жертвами. Что принесла Франции якобинская революция? Террор и насилие, ещё большее, чем при королях… Меня вот что удивляет, и не могу с этим примириться. Почему у нас, особенно в последнее десятилетие, почти каждый интеллигент почитает своим долгом бранить государственные устои и порядки? Почему не написано ни одной патриотической книги — романа, повести, рассказа, где главным героем был бы блюститель существующего строя, скажем, чиновник, занимающий высокую должность? Если же показывают таких чиновников или вообще хранителей порядка, так лишь в отрицательном свете — этакими ничтожными, тупыми, жестокими злодеями. А ведь эти-то патриоты и служат России не за страх, а за совесть, первые гибнут от ваших бомб, в них первых вы стреляете…
Слукин вернулся к столу, сел, бледный, взволнованный, достал дрожащими пальцами из портсигара папиросу, жадно закурил. Сказал, не поднимая глаз от стола, точно стыдясь:
— То, что я говорил, к следствию не относится. Прошу не принимать во внимание.
И пошёл обычный допрос, вопросы, касающиеся только дела, записи в протокол, долгие мучительные паузы.
Прошло ещё несколько допросов, ещё несколько протоколов было написано Слукиным, но ничего нового Силаев ему не рассказал. Устав от допросов, а допрашивал он, естественно, не одного только Силаева, Слукин однажды, придя в отчаяние, сердито сказал:
— Как вы меня, Сергей Андреевич, мучаете. Как мы надоели друг другу. Одно из двух: или признавайтесь чистосердечно, помогите мне кончить следствие или, в конце концов, убегайте из тюрьмы. Убежите — и я приостановлю дело, пока вас не поймают.
Слова эти оказались пророческими — Силаев бежал.
…И вот Силаев сидит в овраге, в кустах, на свободе.
Дно оврага заросло густой высокой травой и кустарником, по краям стоят старые вербы, видно, их посадили, чтобы не размывало склоны. Трещат в траве кузнечики, некоторые вскакивают ему на руки, на сапоги. Вскочит, посидит, потрёт ногой об ногу, пострекочет и спрыгнет. И повсюду краснеет смолка. Силаев сорвал несколько липких цветков, воткнул в петлицу вицмундира. Полюбовался бутоньеркой, улыбнулся — воля!
Представил, какой шум-тарарам сейчас в тюрьме, как шныряют по городу сыщики, переодетые жандармы, рыщут по улицам, по дворам, расспрашивают, приглядываются, ищут бежавшего. Предупреждены полицейские, дворники, будут задерживать всех стриженых…