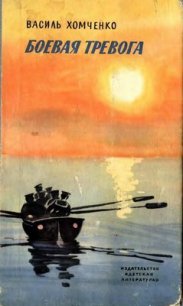При опознании — задержать - Хомченко Василий Фёдорович (полные книги TXT) 📗
Из квартиры в тюрьму его повели уже за полночь. Во дворе возле дома увидел одетых Орещенко и Кравцова. Один был у дверей, другой — под окнами. Значит, стояли на страже. Поздоровавшись с жандармами, они остались на прежнем месте.
Была ранняя весна, снег на улицах почти растаял. Начало апреля выдалось мягким, днём с солнечной стороны улицы даже припекало. Тёплый ветер прилетел в Россию ещё в конце марта, пробудил горячим дыханием землю, слизал снег с деревьев, крыш, потом и с мостовых. В ту ночь небо было чистым и звёздным, на землю лёг утренник, лёгкий, приятный. Он бодрил, дышалось легко, пахло весной — теми запахами, которые замечаешь в любом состоянии и настроении, в любом месте, даже в городе: мокрой корой деревьев, прошлогодней опавшей и догнивающей теперь листвой, лошадиным навозом и талым снегом… Молодой жандарм шёл впереди и нёс чемодан Силаева, старший — сзади. Он велел Силаеву держать руки за спиной, тот так и держал их, сцепив пальцы. Морозец затянул лужицы, они хрустели под ногами, ледяные крошки, осколки разлетались, как стёклышки, сияя от света уличных фонарей и звёзд. Силаев нарочно наступал на лужицы, старался ни одну не пропустить, пристукивал каблуками, чтобы лучше крошился лёд. Звон ледышек напоминал детство, когда он, маленький Серёжа, вот так же разбивал во дворе молодой ледок. И, припомнив это, он как бы прощался теперь с теми надеждами и мечтами, которые родились у него в своё время в далёком детстве…
Силаева привели в жандармское отделение и часа через четыре посадили в камеру, небольшую, подвальную, с окошечком под потолком на уровне тротуара, по которому день и ночь ходил караульный — круглые сутки слышались его шаги и постукивание приклада. В камере все спали. Первым очнулся кудлатый, с крючковатым носом плотный парень и, назвав себя Моисеем, спросил: «Только что с воли? Ну, как там?» Поднялись и остальные, перекинулись несколькими словами и вскоре уснули; проснулись все уже от стука в дверь — стучал надзиратель, принесли еду.
Было в камере шесть человек: поэт Ваня Тулимович, слабый здоровьем, с бледно-жёлтым лицом, инженер Блохман, деревенский баптист, чиновник из министерства Петрович, Моисей — студент, и какой-то непонятный тип — уголовник, почему-то переведённый сюда из тюрьмы. В камере вместо нар стояли впритык одна к другой железные койки. Ни стола, ни стула, сидеть можно было только на койках. Напротив окошечка на стене, там, куда падал свет с улицы, висела икона — лик Христа-спасителя, побуревшая, закопчённая за долгие годы. Внизу, на рамочке, лепился свечной огарок. За все восемь дней, что Силаев провёл в камере, никто не помолился на эту икону, не зажёг свечу.
В камере говорили о чем угодно, только не о политике — государственные уши могли оказаться и здесь. Силаев узнал кто есть кто только к концу недели, приглядываясь к каждому, судя о нем по небольшим чёрточкам поведения. Известно же, что человек раскрывается не тогда, когда он выступает на трибуне перед официальной аудиторией — тогда он правильный: нет, сущность человека познаётся в обычной повседневной жизни, по мелочам, по отношению к тем, кто от него зависит и от кого он зависит сам. Так Силаев сначала проникся доверием к Ване Тулимовичу и студенту Моисею, тоже поэту, родом с Могилёвщины. А потом просто влюбился в Петровича, талантливого, умного, которому под силу было бы и государством управлять.
Жандармский участок, где держали в подвальных камерах политических, стоял на перекрёстке двух оживлённых улиц. Арестанты забирались на койку, стоявшую у стены под окошечком, и глазели «на волю» — в далёкий и недосягаемый мир. Глядел туда по нескольку раз в день и Силаев. Видел сквозь запылённое стекло и решётку свободных людей — беззаботных, весёлых, довольных жизнью и занятых повседневными хлопотами, удовлетворением насущных потребностей, и потерявших последнюю надежду, опустившихся на самое дно, у которых одно желание — раздобыть кусок хлеба… Но все они жили в свободном мире, на воле, и этим отличались от них, принудительно посаженных в сырую камеру, меж четырех каменных стен. Каждый из тех, кто шёл по улице, мог пойти, куда хочет, и, что самое главное, мог чувствовать себя свободным. А они, чудаки, не понимали, насколько им, даже тому безногому солдату, что ковылял сейчас на костылях по улице, лучше, чем тем, кто с завистью следит за ними из-за решётки… Они, свободные, что захотят, то и сделают с собой, хоть руки на себя наложат. А тут и умереть по своему желанию не дадут, помешают — вон раз за разом открывается крышка «глазка» и их пронизывает взгляд надзирателя…
С неделю Силаева на допрос не вызывали. К его удивлению, не вызывали и остальных. Забирали почти каждый день одного уголовника с пропитым хмурым лицом. Делать было нечего, книг и газет не давали, шашек и шахмат тоже, в карты играть тем более не разрешалось. Сидели, лежали, по очереди глядели в оконце, по очереди ходили (двоим было не разминуться) по проходу от стены до стены. Иногда о чем-нибудь спорили, и, если разговор становился громким, солдат за окном стукал о землю прикладом, чтобы замолчали…
Моисей сочинял стихи, не писал — карандаши и бумагу отбирали — складывал устно и читал им вслух. Темы его стихов были разные: то любовь — когда он видел в окошечко какую-нибудь красивую женщину — и тогда в стихах звучали весна, майские дожди и громы, а его поэтическая красотка шла под дождём без зонтика, не замечая ни дождя, ни встречных людей: ведь она была влюблена. «И хлынул дождь и зашумел, зажурчали ручьи…» — вдохновенно читал он. А когда мрачнел, задумывался, тогда и стихи были такие же мрачные: про Мефистофеля, покупающего человеческие души, про ад, про смерть. Пожалуй, он тяжелее всех переживал неволю. Он, деревенский парень, мучился от невозможности встретить весну на земле, которая, проснувшись после зимы, ждала своего пахаря и сеятеля. «Дед мой сейчас в поле ходит, все поджидает, когда можно будет с сохой выехать». И Моисей улыбался, вспоминая деда. «Приехал я на каникулы после первого курса, а дед и спрашивает, могу ли я уже служить писарем при волостном старшине». Моисей написал стихотворение — обращение к родителям: «Матушка! Не мучься понапрасну, не печалься о моей судьбе. Минут годы, будет вечер ясный, издалека я вернусь к тебе. Утаю я сердца боль и раны, с ног стряхну, усталый, пыль дорог. Я приду несломленным и стану на давно покинутый порог».
Стихи эти так пришлись всем по сердцу, что их сразу запомнили. Даже тихий баптист шептал эти строчки.
Только на восьмой день вызвали Силаева на допрос. Жандармский ротмистр Слукин подробно записал со слов Силаева его биографические данные и спросил, кого он знает тут, во Владимире. Силаев, конечно, назвал Лопатина, Орещенко и Кравцова, сказал, что познакомился с ними только в тот вечер, когда приехал к ним на квартиру ночевать. Раньше же никого из них не знал.
Настоящие допросы начались, когда Силаева перевели в губернскую тюрьму. Допрос за допросом, каждый день, каждый вечер… Слукин, которому приказали быстрей кончать дело и разыскать сообщников Силаева, старался как мог. То держал на допросе по шесть-семь часов, брал измором, то уговаривал, обещал поблажку за примерное поведение. Обещал и деньги — плату за службу отчизне. Силаев выбрал для защиты версию и не отступал от неё ни на шаг, хотя звучала она не очень убедительно и поверить в неё было трудно. А версия такая. В действительности он приехал во Владимир на встречу с Лопатиным, чтобы договориться с ним о прекращении своей революционной деятельности и попросить Лопатина найти ему место службы, так как он решил отказаться от всякой борьбы с властью. Надоело прятаться и скитаться по городам без семьи, вдали от родных. Надумал жениться и жить тихой жизнью. Привезённый им чемодан предназначался не Лопатину. Что в нем, Силаев не знал, так как чемодан не его. В московской гостинице к нему в номер зашла незнакомая женщина и, узнав, что он едет во Владимир, попросила отвезти чемодан её родственникам и дала адрес. Дала также двадцать рублей на дорогу — на извозчика, носильщика. Очень просила помочь ей, просто со слезами молила. Он согласился — женщина все-таки, — взял чемодан. Что в чемодане — не интересовался, не открывал его. Где адрес её родных? Пожалуйста, и Силаев назвал Слукину — на всякий случай у него был записан нейтральный адрес — место жительства известной домовладелицы на Дворянской улице. Женщина, передавшая чемодан, сказала, что за ним придут. В этой версии была весьма немаловажная — в пользу Силаева — деталь: в чемодане не нашли ни одного предмета, ни бумаги, ни документа, которые принадлежали бы Силаеву. Его собственные взятые в дорогу вещи: полотенце, носовые платки, мыло, бритва, записная книжка и прочее — лежали отдельно в кожаном баульчике.