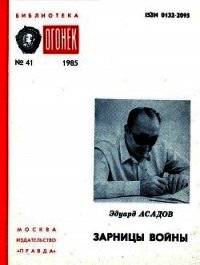Старый знакомый - Шейнин Лев Романович (электронные книги без регистрации TXT) 📗
Вошла фрау Лотта и пригласила офицеров к столу.
— Я надеюсь, что вы, фрау Лотта, и профессор не откажетесь с нами поужинать? — обратился к молодой женщине Сергей Павлович, дружески привязавшийся к этой немецкой семье.
— Я, право, не знаю, герр оберст, не злоупотребляем ли мы вашим гостеприимством, — смущённо ответила фрау Лотта, старавшаяся в последнее время реже встречаться с полковником.
— Ну что за пустяки! — ответил Леонтьев. — Мы будем очень рады вместе провести вечер. Я сейчас сам приглашу профессора.
Через несколько минут, ужиная вчетвером, советские офицеры оживлённо беседовали с профессором и фрау Лоттой.
Ещё при первой встрече с профессором Ларцев понял, что это честный и цельный человек, принадлежавший к той части немецкой интеллигенции, которая, питая отвращение к нацизму, уходила с головой в свою науку, сделав своим знаменем полную аполитичность.
А профессор Вайнберг с интересом беседовал с Ларцевым, который произвёл на него благоприятное впечатление своей деликатностью, спокойной манерой говорить и умением очень внимательно слушать собеседника.
Профессор уже давно оценил своего жильца, полковника Леонтьева, его душевную собранность и доброту, скромность в быту и преданность делу, которому он служит. Теперь Вайнберг познакомился со вторым полковником, который тоже оказался культурным и воспитанным человеком. Да, эти русские офицеры были совсем не такими, какими их изображали фашистские пропагандисты в течение многих лет. Беседуя с советскими людьми, профессор думал о том, что эти офицеры при всём различии их внешности, манеры разговаривать и, по-видимому, характеров были в то же время в чём-то сходны между собой. «В чём же?» — думал Вайнберг. И, отвечая самому себе на этот вопрос, приходил к выводу: скорее всего в том, что этих людей объединяет не только их национальность и военная профессия, но и одна система воспитания, при которой в них повседневно развивались любовь к родине, сознание общественного долга, принципы интернационализма и нетерпимость к какому бы то ни было зазнайству, обычно столь свойственному победителям. И невольно вспоминал профессор надменных гитлеровских офицеров с их бездушно жестокой агрессивностью, узостью интересов, с их утрированной выправкой, начальственными замашками и вычурными манерами, с такой характерной для прусской военщины привычкой иронически, со снисходительным превосходством относиться к штатским, любым штатским, в том числе и к людям науки и искусства. «Да, в этих советских офицерах нет ни малейшего признака представителей военной касты, — думал профессор, — они — дети нового строя, нового жизненного уклада, новой социальной системы».
Беседа за столом коснулась и животрепещущей атомной темы. Заговорили о бомбах, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки.
— Скажу вам прямо, господа, — произнёс профессор, не пытаясь скрыть волнения, — если до того дня, когда были сброшены эти бомбы, у меня ещё мелькала мысль перебраться на запад, то после того, как это случилось, я окончательно решил оставаться здесь. Нет, нет, я не хочу, чтобы моя наука была в крови! В природе есть силы, с которыми не шутят. Я знаю, что атомную бомбу получили при помощи многих иностранных физиков, в том числе и моих немецких коллег. Я не хотел бы быть на их месте и от души жалею их!..
Старый профессор помолчал, глубоко задумавшись.
— И без того уже на совести моего народа слишком много крови, — снова заговорил он. — Я часто задаю себе мучительный вопрос: как могло случиться, что в самом центре Европы, в моей стране, подарившей миру столько великих людей, создавшей такую высокую культуру, в стране, прославленной трудолюбием и честностью её народа, победило кровавое безумие фашизма? Как сумели превратить десятки тысяч немцев в убийц, палачей и насильников и как я, старый немецкий профессор, и тысячи подобных мне учёных, писателей, инженеров, художников, педагогов и психиатров — как могли мы это допустить, этого не предвидеть! Как смели подчиниться этому кошмару? Вот чего никогда не простит нам история и за что нас осудят внуки!..
— Я во многом согласен с вами, профессор, — сказал Ларцев. — Но не кажется ли вам, что сейчас надо думать не о том, что уже произошло, а о том, чтобы это никогда не повторялось? И не только думать, профессор, но и действовать: бороться и убеждать!..
— Вы, разумеется, правы, — ответил профессор. — По позвольте быть с вами откровенным до конца. Я дожил до седых волос в уверенности, что наука может и должна быть над политикой, вне политики. Потом, уже после войны, когда мир снова оказался расколотым на два враждебных лагеря — да, да, не спорьте, ведь это так, на два лагеря, стоящие друг против друга, — я, может быть, даже подсознательно, решил остаться посредине… Да, посредине, потому что в каждом из этих лагерей что-то меня не устраивало. Вы, коммунисты, удивляете меня своей прямолинейностью, резкостью своих позиций. Иногда мне кажется, что вы рассматриваете весь мир по определённой схеме: друзья и враги, ангелы и черти. Но ведь жизнь сложнее подобных схем и её нельзя уложить в формулу определённой догмы…
— Мы тоже противники догмы, профессор, — возразил Ларцев.
— Может быть, но я ещё не убеждён в этом, — сказал профессор. — Позвольте мне продолжать, потому что не всякий будет с вами так откровенен, как я. А то, что я скажу, может быть, пригодится вам для понимания сомнений и дум, которые владеют теперь многими представителями немецкой интеллигенции и, может быть, не одной немецкой.
— Мы слушаем вас с большим интересом, профессор, — произнёс Ларцев, — и благодарны вам за прямоту.
— Да, да, я выскажу все, что думаю! — горячо воскликнул профессор. — Меня пугало в коммунизме и другое: мне казалось, что при этой системе все должны шагать, как солдаты, в одном строю, по одной команде, что человеческая индивидуальность будет стеснена в своём развитии. Потребовалось немало времени для того, чтобы я разобрался в некоторых сомнениях, пока сама жизнь не отмела часть из них… Но не всё, нет, ещё далеко не всё. И думаю, что я не одинок. Вот что я хотел сказать вам, господа…
— Благодарю вас за откровенность, профессор Вайнберг, — произнёс Ларцев. — По поводу всего, что вы нам сейчас сказали, я многое мог бы вам ответить и вначале даже хотел это сделать, но потом передумал: пусть за меня и за всех нас вам ответит жизнь. В её ответы вы скорее поверите, и она вас лучше убедит. Скажу лишь одно: я далёк от мысли, что каждый из советских людей, которых вы встречаете в Германии, абсолютно безупречен, но зато понимаю, что по каждому из них вы судите обо всех нас в целом. Поэтому будьте осторожны в своих обобщениях и не торопитесь с окончательными выводами.
Вайнберг не без удивления посмотрел на Ларцева. Меньше всего он ожидал услышать такой ответ. Напротив, он не сомневался, что сейчас офицеры обрушат на него поток аргументов, цитат, исторических экскурсов и всякого рода сопоставлений, одним словом, — всё то, что принято было в последние годы именовать загадочным и пугающим словом — «пропаганда». Но этого не случилось, и по какой-то сложной психологической закономерности ответ Ларцева убедил профессора Вайнберга в правоте этих людей гораздо больше, нежели самые пылкие слова.
Именно на такую реакцию и рассчитывал Ларцев, очень хорошо понимая, что людям типа профессора Вайнберга надо дать возможность самостоятельно прийти к определённым выводам, требующим пересмотра всей системы взглядов и убеждений, сложившихся за целую жизнь. Эта самостоятельность суждения всё равно будет направляться реальной действительностью, хотя бы и подсознательно для самого профессора и таких, как он.
Беседа затянулась до поздней ночи, и в ходе её Ларцев выяснил интересовавший его вопрос о характере научного труда, который пытался похитить Вирт. Из слов профессора стало ясно, что этот труд представляет собой предварительный итог его работ в области атомной физики, связанных с проблемами использования атомной энергии в мирных целях.