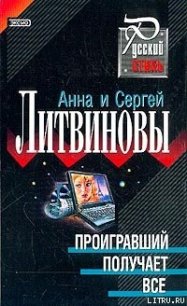Бойтесь данайцев, дары приносящих - Литвиновы Анна и Сергей (бесплатные версии книг TXT) 📗
«Дорогой Владислав, – адресовалась к нему Нина, – извини, что я пишу к тебе, да еще и с нарочным, – но я недавно узнала, что ты, оказывается, находишься на полигоне. – Секретность внутри ОКБ, как и внутри страны, была настолько тотальной, что даже сотрудники одного и того же отдела, не говоря уж о коллегах из других подразделений, могли не знать (да что там, не должны были знать), чем занимается и где пребывает их товарищ. – Мое письмо вызвано следующим. Не помню, говорила ли я тебе, – на самом деле не говорила, иначе Иноземцев бы помнил, – что я перед кончиной Юрия Васильевича побывала у него в госпитале – мне этот визит устроил С. П., – то есть Королев, понял Владик, – за что я ему чрезвычайно благодарна. Юрий Васильевич находился тогда в весьма тяжелом состоянии, однако с трудом, и через большие паузы, он все-таки сказал мне следующее – из чего я заключаю, что довести эту информацию до меня было для него очень важно. «Будучи на полигоне (сказал мне Ю. В.), я стал вести записки о своей жизни. Они там, в моей комнате, и остались. Всегда, уходя, я прятал их под половицу под своей кроватью. И в тот раз, когда отправился на пуск, тоже. Так они там и остались. Пожалуйста, найди способ достать и передать их, – тут он назвал мне твое имя. Именно ему (то есть тебе, Владик), подчеркнул тогда Ю. В. И вот я узнаю: ты, оказывается, как раз на полигоне! Что ж! На ловца и зверь бежит. Возможно, эти бумаги так и остались тогда там, у Ф. в комнате под половицей. Пожалуйста, изыщи возможность проникнуть туда и найди их – ради памяти нашего с тобой общего друга».
Ни Нина, ни кто-либо другой в ОКБ не знал о том, что Владик на самом деле родной сын Флоринского. И если девушке было удивительно то, что тот просил передать свои записки именно ему, то Иноземцев сему обстоятельству нисколько не поразился. Не странным было и то, что Юрий Васильевич взялся за записки – долгими вечерами на полигоне еще и не такое придумаешь. Как не изумило его и то место, где пожилой конструктор хранил дневники, – под половицей! Старый лагерник всей своей шкурой воспитан был на том, что любые откровенные заметки о жизни следует прятать, оставляя на виду лишь конспекты по истории КПСС и диамату [8].
Владик никогда даже не задавался вопросом, где на полигоне проживал Флоринский перед своим ужасным ранением на испытаниях ракеты Р?16. Но сейчас ему захотелось, под воздействием алкогольных паров, немедленно отыскать эту комнату и достать дневник. Он лишь усилием воли поборол свое желание, решив, что проникновение в бывшее жилище Юрия Васильевича следует подготовить тщательно и со свежих глаз. Не о рецепте пирога речь идет – о тайных записях.
Да и сохранились ли они? Все-таки год прошел. Не нашли ли дневники (и приобщили к своим делам) особисты? Не сожрали ли мыши? Завтра, подумал Владик, надо как следует протрезветь и составить план: как я найду посмертные записи отца. Он обратил внимание, что, едва ли не впервые, мысленно назвал Юрия Васильевича отцом, и улыбнулся этому обстоятельству.
Москва.
Лера
Они с Виленом и Марией договорились сходить вместе в ЦПКиО: покататься на пруду на лодочке, попить настоящего (как говорили) чешского пива в ресторане «Пльзень».
Улучив момент, когда Вилен отошел, болгарка шепнула: «Завтра. В час пятнадцать, Лефортовский парк, вторая скамейка от входа».
Лера была впечатлена. Назавтра был понедельник. «Почтовый ящик», где она служила, и впрямь располагался неподалеку от Лефортовского парка, а с часу до двух был обеденный перерыв, когда можно было выскочить прогуляться, – но она решительно не помнила, чтобы рассказывала об этом Марии. Да, скорее всего, ничего и не говорила – с чего бы ей откровенничать, да еще перед иностранкой? Откуда тогда болгарка узнала? Неужели Вилен протрепался?
Вечером, когда шли от метро к дому, она спросила об этом у мужа. Тот стал решительно отрицать, а потом сказал многозначительно, и непонятно было, всерьез он или шутит: «Остается думать, что мы главного противника, американскую разведку, недооцениваем. У нее всюду глаза и уши».
Галя
Галя всегда любила воскресенья, в чем была среди советских людей совершенно не оригинальна. Имелись, конечно, чудаки вроде Владика, его начальника Константина Петровича Феофанова или Сергея Павловича Королева, для которых понедельник начинался в субботу, но она к числу подобных одержимых не относилась. Любила, грешным делом, единственный в неделю выходной, когда не нужно сломя голову бежать к метро, ехать на работу и можно поваляться подольше. Раньше для нее воскресенье означало еще одно: прыжки. Ах, это прекрасное время на аэродроме, когда по утрам как раз таки никто не валялся, все выбегали на зарядку и построение, а потом – только бы была хорошая погода! – в самолет и вверх, а там – небо, ветер, солнце, друзья! И ты летишь! Когда же она прыгала в последний раз? Как узнала, что Юрочкой беременна. Значит, летом позапрошлого года. Больше двух лет прошло. Как бы хотелось повторить, хотя бы разочек!
Однако воскресенье, проводимое в роли матроны при генерале Провотворове, тоже имело свои плюсы. Особенно когда Иван Петрович оказывался дома, не в разъездах своих бесконечных. Нянька в выходной оставляла их одних, уходила в церкву, потому как была набожной. Юрочка, что за чудо-ребенок, валяться им двоим не мешал, сам вставал, играл увлеченно и тихонько в солдатики и машинки. Поэтому Галя и генерал леживали по воскресеньям до удивительно поздних времен, аж до четверти десятого, пока не начиналась радиопередача «С добрым утром!» с ее бодрыми позывными: «С добрым утром, добрым утром и хорошим днем!» Под нее и завтракали. Телевизор в квартире Провотворова тоже имелся, да только никаких утренних программ в шестьдесят первом году еще не передавали.
Последние пару месяцев взаимоотношения с возлюбленным, правда, стали портиться. Начиналось все с мелочей, с ерунды. Подумать только – с политики. Генерала за его оплошность с Юрой Первым не посадили, не сослали и даже никак не наказали по служебной или партийной линии. Лучшее доказательство того (думала Иноземцева), что Хрущев в качестве руководителя все-таки гораздо лучше, чем столь любимый Провотворовым усач-вурдалак. Галя развенчанию культа личности радовалась. У нее самой, слава богу, в семье никто от сталинских репрессий не пострадал, но сколько их по стране было, необоснованно посаженных! Хотя бы даже вокруг оглянуться. Аркадий Матвеевич, отчим Владика, – сидел. Флоринский, его родной отец, – тоже. А Королев Сергей Павлович! А создатель ракетных двигателей академик Глушко! Знаменитый авиаконструктор Туполев! И это только те, кому удалось выжить и из лагерей вернуться. А сколько было расстреляно, замучено, заморено!
Когда Галя попыталась донести эту мысль до Провотворова – он ее чуть не ударил, ей-ей. Глаза сузил и прошипел: «Чтобы я от тебя больше подобных речей не слышал! Да я Сталину всем обязан, всем! И страна наша – тоже!»
Тело Сталина под конец работы двадцать второго съезда, в октябре шестьдесят первого, из мавзолея вынесли, за одну ночь перезахоронили в могиле у кремлевской стены, которую для верности залили (как шептались) бетоном. Из надписи ЛЕНИН-СТАЛИН на фасаде гробницы оставили одного «Ленина». По всей стране срочно переименовывали улицы, проспекты, поселки и города имени вождя, сносили и взрывали его памятники, выкидывали из кабинетов бюсты и портреты. Провотворов, когда при нем об этом заходила речь, только зубами скрипел, желваки на скулах ходили. Однако высказываться, особенно дома, в негативном ключе по поводу нынешнего руководства все равно не смел. Лишь однажды прошелся в адрес Никиты: «Себе, что ли, место в мавзолее готовит?!»
В последние дни съезда на публике появился Юра Первый, даже дал небольшое интервью газете «Труд» (газете профсоюзов, в отличие от более центральных собратьев «Правды» и «Известий», были позволены определенные вольности): отдыхал, дескать, на юге, подхватил падавшую дочку, а сам расшибся.
8
Диамат (диалектический материализм) – один из разделов марксистской философии, которую следовало в обязательном порядке, в институтах или на политзанятиях, изучать всем советским людям.