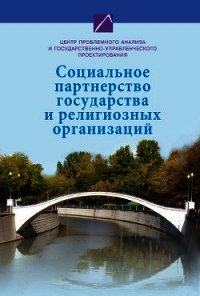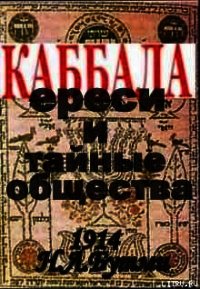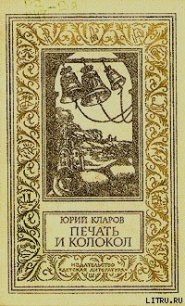Черный треугольник. Дилогия - Кларов Юрий Михайлович (прочитать книгу TXT) 📗
Что поделаешь! Мы лучше, чем кто бы то ни было, можем понять те трудности, с которыми сталкиваются сотрудники бандотдела. Но нет никаких сомнений, что рано или поздно Харьковская ЧК вернет народу все, что хранилось в музее. Что же касается нас, то мы со своей стороны постараемся оказать харьковчанам посильную помощь…
И вот тут моя тирада была прервана коротким, но внушительным «ни», произнесенным нашим гостем. Хотя я не был знатоком украинского языка, но все-таки понимал, что «ни» обозначает «нет».
– Простите?… – выставил вперед свою остроконечную бородку Борин. – Вы отказываетесь от сотрудничества с нами?
– Ни.
– П-постой, Сергей Яковлевич, п-постой, – сказал Сухов, имевший привычку переходить с человеком на «ты» после первой же кружки чаю. – Что – «ни»?
– Не лезь попередь батьки в пекло, – остановил его комиссар бандотдела. Он не торопясь допил чай и, не прибегая уже к «украинской мови» (как я потом узнал, несмотря на свою фамилию, он всю жизнь прожил в Костроме, а в Харьков его забросила гражданская война), сказал:
– Мы не три музейных экспоната нашли, а двести.
От неожиданности Павел обжегся кипятком и заговорил по-украински:
– Скильки?!
– Двести, друг ситцевый.
– Пяток, мабуть?
– Двести.
– Брешешь, – сказал Павел и смолк, исчерпав, видимо, свой скромный запас украинских слов.
Приходько с треском раздробил белоснежными зубами кусочек сахара и протянул Павлу пустую кружку:
– Плесни еще…
– …парубок, – подсказал я.
– Во-во, парубок, – обрадовался он и, поставив на стол кружку с дымящимся чаем, солидно сказал:
– Брешут, парубок, тильки собаки у околицы, а я не брошу.
– Ну врешь, – миролюбиво поправился Павел.
– Ни, – не согласился Приходько. – Привираю – да, но не вру. Да и привираю-то самую малость. Избави бог от вранья. Я за правду держусь, как дитя за подол матери. Меня правде отец еще в отрочестве учил. Да как! Сколько лет прошло, а учебное то место и по сей день чешется! Как сяду – так тут же о правде и вспоминаю. Так что о вранье ты зря.
Борин улыбнулся: Приходько ему нравился.
– А «малость»-то… велика? – деликатно спросил он.
– С привиранием?
– Да-с, ежели позволите.
– Да нет, – заверил его Приходько. – Тильки для счету. Ровненько чтоб было.
– Вроде как бы для округлости?
– Для ее самой.
– А списочек-то имеется? – с той же деликатностью спросил Борин, стремясь уточнить размеры «малости», которая потребовалась Приходьке для «округлости».
– Имеется, имеется, – успокоил Борина Сергей Яковлевич. – Сейчас пошукаем.
– Мабуть, и н-найдем, – съехидничал Павел.
– Найдем, парубок, найдем, – заверил его Приходько. Он извлек из офицерской полевой сумки сложенные вчетверо листы бумаги. – Дывись, парубок, и завидуй. Нашими доблестными ребятами найдено, изъято и возвращено трудовому народу сто шестьдесят девять экспонатов музея.
Действительно, в списке насчитывалось сто шестьдесят девять предметов.
Тут были златники Владимира Равноапостольного и восемь золотых монет Дмитрия Донского с именем хана Тохтамыша на оборотной стороне, пять золотых лидийского царя Креза, одна из двух серий исторических медалей, выбитых при русской императрице Екатерине II, геммы и многие другие ценности из богатейших коллекций музея.
В отличие от нас, харьковчанам было чем похвастать. И если Приходько округлил, то самую малость, причем эта «малость» действительно была невелика. Выходило, что Харьковскому музею возвращено более половины разграбленных Лупачом экспонатов.
– Ну как? – спросил Приходько.
– З-здорово, – откликнулся Павел.
– Так-то, парубок.
– Гляжу я на список, та й думку гадаю… – сказал я.
– У кого нашли, где нашли и как нашли? – подхватил Приходько. – За тем к вам и заявился.
– Кстати, мы тут письмо из Харьковского уголовного розыска получили относительно одной из вещей «Алмазного фонда», – сказал я.
– О «перстне Калиостро», который в нужничке у гражданина Уварова обнаружили?
– Совершенно верно.
– Знаю, – кивнул Приходько. – И про письмо знаю, и про Уварова, и про нужничок. Ведь на тот нужничок я их вывел. Там немало и экспонатов музея было. Уж так получилось, что переплелось все. Вот с чего только начать?
– Может, с н-начала? – предложил Сухов.
– А где оно, начало-то? – сказал Приходько. – Куда ни ткнешь, всюду середина. Ну да ладно, нехай.
Значит, так. О том, что нами задержан спекулянт Кробус с двумя геммами и золотой медалью, мы вам сообщали. Верно? Ну вот. А допрашивал того Кробуса я. Самолично.
Скользкий гражданин, доложу я вам: ни за руку не ухватишь, ни за ухо. Будто салом смазали. И так я его, подлеца, вертел и этак – ни в какую. И чего только не вытворял!
Вроде как игру со мной какую затеял. В глаза смеется.
Так, дескать, и так, выкладывает, на фу-фу, гражданин начальник, желаете меня взять, а ежели по-интеллигентному – на сухую. Помилуй, говорю, какая сухая, когда с поличными тебя припечатали? Слепой ты, что ли? Вон она, медалька золотая. Не видят глазыньки, так пощупай, ручки-то есть? А это, говорит, не поличные. А что же? Так, говорит, то ли кукиш, то ли обман зрения. Я, говорит, мог эту медаль и в картишки выиграть, и в канаве найти. А нет – так у кого на пачку махорки выменять. И медаль и камешки. Врешь, говорю. А вы, говорит, докажите. Может – вру, а может – как на исповеди. И усмехается косенько. Дескать, что, взял? И не такие, как ты, умники-разумники на мне свои зубки ломали.
Ладно, думаю, парубок, – ввернул Приходько полюбившееся ему слово, – мне своих зубов для дела не жалко. Хрен с ними, с зубами. Все до единого искрошу, а тебя хоть деснами, а дошамкаю.
Провожу у него обыск. Не по форме – по совести. Весь дом по кирпичикам, каждую половицу на ощупь.
Пустышка!
Обыск у евонного брата – пустышка!
Обыск по малинам да у друзей-приятелей – пусто.
Что дальше-то делать? Ума не приложу. Всем своим пролетарским нутром чувствую, что возле да около хожу, а до сути никак не доберусь. Будто колдовство какое.
И остаться бы мне при одной той медальке да при собственном интересе, ежели б не хитрость Кробуса… Ух хитрован был! До чего ж хитрован! Самого себя перехитрил парубок…
Вызывает меня через недельку начальство. Хмурится. Ну, дело ясное: по всему видать, откуда ветерок дует. Стою руки по швам, как положено.
«Долго еще, – говорит, – дорогой товарищ Приходько, собираетесь революционную законность нарушать?»
Молчу, а сам в угол поглядываю, где неимоверной красоты дама сидит. Не дама – королева. Ну будто с картинки. Кто такая?
А начальство говорит:
«Это, товарищ Приходько, сестра гражданина Кробуса, что за вами числится. И написала она заявление о незаконном двухнедельном содержании в тюрьме своего родного брата. И судя по документам дела, обоснованное заявление. Так что, дорогой товарищ Приходько, сами понимаете…»
«Так точно, – говорю, – понимаю: раз веских доказательств вины Кробуса нет, значит, надо выпускать. Ничего не поделаешь и ничего не попишешь – законность. Пускай дышит всеми своими жабрами и дальше спекулирует, покуда по-настоящему не загремит. А потому, – говорю, – пусть эта миловидная гражданочка вытрет свои горючие слезы кружевным платочком и спокойненько почивает. С революционной законностью спору у нас нет – выпустим братца».
Начальство довольно. Дама всеми своими жемчужными зубками, как на экране синематографа, улыбается. А я грущу будто: тяжко, дескать, жулика выпускать.
Да только грусть та для вида…
Выхожу из кабинета – плясать хочется. Так бы я пошел вприсядку, ежели б не нога пораненная.
Влип, думаю, хитрован. По самую макушку влип.
Ведь я того Кробуса и всю его родню до сотого колена за прошедшие полмесяца вдоль и поперек доисследовал. И нрав, и биографию, и где у кого на каком месте бородавка растет или чирей вызревает. А ежели вызревает, то какой спелости и сочности. А потому досконально знаю: нет сестры у Кробуса. Братья есть, верно, а сестры нет. Значит, что? Вот то-то и оно…