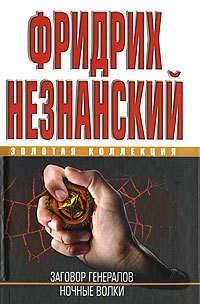Последнее слово - Незнанский Фридрих Евсеевич (серия книг .txt) 📗
Не ожидал он предательства и от Игоря Самойлова, которого всегда считал близким другом. А оказалось, что они — Самойлов и Катерина — постоянно обманывали его, будучи любовниками, и только и ждали, чтоб избавиться от него. Он воображал, какая мерзкая радость охватила, должно быть, их, когда они узнали о том, что он арестован…
Гордеев пытался возражать, сказал, что он встречался с Екатериной Юрьевной и никакой неприязни в отношении к Николаю Анисимовичу с ее стороны вовсе не ощутил. Возможно, теперь говорит в нем оскорбленное самолюбие, тут он возражать не может, но и зря порочить женщину, когда она сама не имеет возможности защититься и как-то объяснить причины такого своего решения, было бы, наверное, не очень правильно. Но даже и такая обтекаемая форма возражения вызвала у Савина чуть ли не взрыв отрицательных эмоций. И Юрий Петрович даже пожалел, что случайно затронул этот вопрос, и постарался перевести разговор на другую тему — о будущем, которое, собственно, настало уже сегодня.
Поговорили о том, чем теперь станет заниматься Савин, к чему его больше тянет. С прежней службой было, разумеется, все полностью покончено. Устраиваться в какое-либо охранное агентство — дело бессмысленное: судимость за плечами. Оставалось разве что лишь то, к чему, как говорится, лежали руки. А у Савина с юности были «рабочие» руки, он умел и молоток держать, и гвоздь правильно забить, и шуруп вывернуть, и в электротехнике разбирался — сам всегда чинил, если что-то в доме перегорало или гас свет.
По ходу обеда и обрывочного, перескакивающего с одного предмета на другой, разговора Гордеев узнал, что в колонии Савин познакомился с парой хороших, толковых ребят, которые обещали по выходе на волю не оставить в одиночестве и беде своего доброго товарища. Вот на них он, собственно, и может рассчитывать.
А так, вообще?
Зря, наверное задал Гордеев этакий философский вопрос — ну а как вообще? Потому что состояние Савина вмиг изменилось. Только что сидел за столом и отхлебывал из бокала терпкое «мукузани», до которого оказался большим любителем еще с молодости, все понимающий и смирившийся со своей нелегкой и нелепой судьбой, пожилой уже человек, и вдруг его словно не стало. А его место снова занял какой-то упертый, агрессивный тип, который прежде всего заявил, что еще в лагерной своей жизни составил четкий план и теперь намерен привести его в действие. И в этом плане на первом месте стоит месть тем мерзавцам, которые поломали ему жизнь, уничтожили его семью, да и его самого, превратив в безвольную развалину. Но он им всем еще покажет! Они еще содрогнутся! У него еще хватит сил! Это будет такой салют его торжества, что они надолго запомнят эти сто залпов!..
С огорчением услышал Юрий Петрович слова «старой песни». Увы, с Савиным действительно произошла какая-то необратимая метаморфоза. И самое верное, что можно сделать в сложившейся ситуации, — это найти ему умного лечащего врача, который бы сумел помочь перебороть приобретенный в узилище комплекс. Если что-то из этого вообще может получиться.
Гордеев без всякого удовольствия слушал бредовые мысли Савина о неотвратимой мести, не понимая, при чем здесь какие-то сто залпов, и думал только об одном: как бы без последствий для себя и для этого сумасшедшего закончить ужин, чтобы не нарваться на скандал. А Савин, с полубезумными глазами, размахивающий вилкой и ножом, превращался за столом в какого-то странного, определенно ненормального человека, бредившего местью и угрожавшего непонятно откуда взявшимися у него запасами тринитротолуола, ожидающего, оказывается, своего «звездного часа». И он, изгнанный из органов, которым он отдал всю свою честную и сознательную жизнь, подполковник Савин, явился наконец, чтобы приблизить этот час! Час расплаты! И снова — месть и месть… Казалось, другого слова в словаре этого человека просто уже и не было.
Настроение было скомкано, как та картонная маска, поразившая в свое время Юрия Петровича на лице Савина. Говорить, по сути, было тоже больше не о чем. Савин не был должен своему адвокату решительно ничего, ни копейки. Фонд, после принятия Верховным судом окончательного решения, расплатился полностью. Деньги были невелики, но на большее Юрий Петрович и не рассчитывал. Ну а моральное, так сказать, состояние — это уж его личное дело, и оно никого не касается.
Поэтому он постарался мягко закруглить разговор об угрозах в адрес «некоторых» лиц. О них, кстати, стало известно, что во время очередной чистки в службе безопасности ряду генералов, в том числе и Самощенко со товарищи, пришлось расстаться со своими постами. Сказали об этом адвокату в фонде, когда он был там, у Шляхова, в последний раз, и теперь Юрий Петрович не без удовольствия сообщил о «торжестве справедливости» и своему бывшему подзащитному, но восторга в глазах того не увидел. Неужели чувство мести сидело в нем так глубоко и прочно?
Никчемный, в сущности, разговор и пустой получился вечер, даже элементарной признательности в свой адрес Гордеев, как ни пытался, не ощутил. Ну нет так нет. Не очень-то, скажем так, и хотелось.
На этой грустной ноте и закончился дружеский ужин.
Гордеев проводил Савина до такси, усадил, пожал на прощание руку и постарался поскорее забыть о нем. Тягостное осталось впечатление. Но… Никто ведь тебя силком, если быть до конца справедливым, не загонял на нары. Никто не заставлял копировать секретные документы. И вообще, для какой цели ты это делал — так ведь внятно объяснить и не смог. Для собственной информации? А что, разве так бывает? Разве это у вас, на Лубянке, считается в порядке вещей? И какие ж после этого претензии у тебя, скажем, к государству, если ты сознательно нарушил основной закон своей службы?
Но это, так сказать, никчемные споры с самим собой, внутренний монолог на лестнице той квартиры, из которой тебя только что выперли с треском, а ты словно бы пытаешься оправдаться. Перед кем? И кому это теперь нужно?
И еще одно, как уже сказано, странное чувство не покидало Гордеева весь вечер. Было ощущение, что они оба, и он сам, и Савин, находятся под чьим-то внимательным наблюдением. То есть вот ты совершенно определенно чувствуешь на себе изучающие взгляды, но кто смотрит, понять не можешь. Не видишь заинтересованных глаз, не замечаешь напряженного внимания кого-то, сидящего, видимо, за одним из столов. Но, наверное, это уже в самой природе человека — ощущать незримое давление со стороны, будто в тебя устремлен чей-то поток энергии. И это ощущение Гордеева не покидало до тех пор, пока он не вышел вместе с Савиным на улицу, чтобы поймать для него такси. Только на свежем воздухе он почувствовал, что его больше ничто не давит. Вот же странное чувство — бессознательное какое-то, но заставляет словно сжиматься, беспокойно оглядываться. А все оттого, что ни черта понять было нельзя с той необъяснимой метаморфозой, которая уже произошла с его бывшим теперь подзащитным. И слава богу, что бывшим…