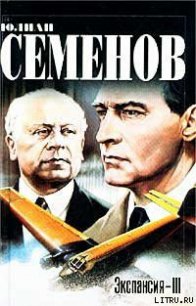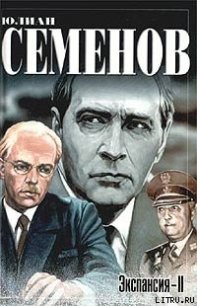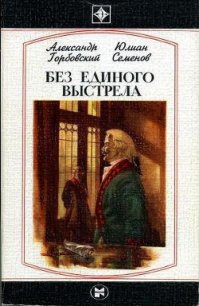Экспансия – I - Семенов Юлиан Семенович (серия книг TXT) 📗
— …В противовес утверждению обвинения, — монотонно продолжал защитник, — Розенберг ни в коем случае не был вдохновителем преследований евреев, как и вообще не был руководителем и создателем политики, проводимой партией и Германской империей.
Розенберг был, конечно, убежденным антисемитом, который отразил свои убеждения и принципы в сочинениях и речах. Но антисемитизм не находится на переднем плане его деятельности… Обвинение цитировало следующее высказывание Розенберга как программное: «Еврейский вопрос после устранения евреев со всех общественных постов найдет свое окончательное разрешение в создании гетто…» Но Розенберг не участвовал в бойкоте евреев в 1933 году, не был привлечен к разработке антиеврейских законов: лишение гражданства, запрещение вступать в брак, лишение избирательных прав, удаление со всех значительных постов и из учреждений. Он также не участвовал в мероприятиях против евреев в тридцать восьмом году, в разрушении синагог и в антисемитских демонстрациях. Он не был закулисным руководителем, который подстрекал людей на такие действия или приказывал им совершить их…
Ну, да, конечно, бедный рейхсминистр не знал, что все евреи были выселены из городов, согнаны в гетто и оттуда начали свой исход в печи Освенцима, подумал Штирлиц. Он требовал их уничтожения, как идейной «силы», но он не хотел их сжигать, «добрый доктор» Розенберг. Да, конечно, он был убежденным антисемитом, но это ж позиция, каждый человек имеет право на позицию, иначе это нарушение права человека на свободу изъявления собственного «я», не надо смешивать идею антисемитизма с практикой геноцида, которую «тайком» от Него проводил Гитлер и Гейдрих, такие безобразники, обманывали своих ближайших товарищей по партии.
— …Я перехожу к оперативному штабу Розенберга. Не менее трех обвинителей выступали на данном процессе с обвинением Розенберга в систематическом разграблении предметов искусства и науки на Западе и Востоке. Сначала я должен рассмотреть явно преувеличенные и несправедливые обвинения в том, что деятельность особого штаба на Западе распространялась без какого-либо различия на общественную и частную собственность, что Германия присвоила себе предметы искусства, которые превышают по ценности сокровища музея Метрополитен в Нью-Йорке, Британского музея в Лондоне, Парижского Лувра, Третьяковской галереи, вместе взятых. Я должен также признать неправильным утверждение о том, что «программа разграбления» Розенберга имела целью лишение оккупированных областей всех сокровищ искусства и науки, накопленных в течение столетий… Он действовал не по своей инициативе, а в порядке проведения в жизнь государственного приказа…
Геринг поддерживал работу оперативного штаба и, как он показывает, «отделил» кое-что с согласия фюрера для своих собственных целей… Розенберг ничего не мог предпринять против Геринга, но он поручил своему уполномоченному Роберту Шольцу, по меньшей мере, точно регистрировать все, что переходит к Герингу…
Ишь, подумал Штирлиц, он поручал «регистрировать»! Конечно, русские недочеловеки не умели создавать музеи, да и вообще, чем им гордиться?! Все эти Толстые, Пушкины, Глинки, Достоевские, Чайковские… Их усадьбы были вполне хороши для казарм, стены толстые, печи теплые, а Петродворец вообще построен Растрелли, какой он русский, наверняка немец, русские не умеют быть зодчими, гунны!.. Боже ты мой, двадцатый век, все это происходило в двадцатом веке, когда люди поднялись в небо, опустились под воду и расщепили атом… Откуда такой вандализм в стране, которая дала миру поразительных мыслителей, поэтов и музыкантов?! Почему маньяк Розенберг оказался сильнее Гегеля и Баха?! Защита национал-социализма — это программа для будущих нацистов. Этот адвокат дает им советы, как избежать «досадных частностей», как править в соответствии с нормами международного права, как подстраховать бесчинство параграфом конвенции… А вот скажи самому себе, спросил себя Штирлиц, ты бы смог набросить на шею Розенберга петлю, посмотреть ему в глаза, а потом ударить ногой по табуретке, зная, что в тот же миг его тело начнет извиваться и беспомощно дергаться? Да, ответил он себе сразу же, я бы сделал это. Я бы сделал это с чистой совестью, потому что не считаю Розенберга человеком. Он гадина. Самая настоящая гадина, существование которой опасно для жизни на земле. Я бы так же спокойно повесил насильника, который надругался над беззащитной девушкой, вандала, задушившего младенца, животное, которое замучило старика. Это Совершенно созвучно той морали, которой следуют миллионы на земле. Кто-то должен принять на себя ужасное бремя кровавого мщения-иначе мир погибнет и начнется царство ужаса и тьмы.
…Передача из Лондона закончилась; начали гнать музыку; Штирлиц поискал по шкале приемника другие страны, но — тщетно, мир устал, глубокая ночь, канун рассвета.
Ложись спать, сказал он себе. Ты хорошо зарядился, послушав речь этого сукиного сына в Нюрнберге. Он зарядил тебя ненавистью. Это неплохой заряд, особенно когда тебе предстоит рвануть через границу, которую охраняют здешние фашисты. Ты должен быть солдатом, который прилежен науке ненависти. Иначе не будет победы.
Штирлиц лег на кровать, повернулся на правый бок, как его приучил отец, и начал считать до ста, но сон не шел. Тогда он заставил себя услышать голос папы, когда тот пел ему нежную колыбельную: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, мышка за печкою спит»… Он улыбнулся, подумав, что только в устах мамы или отца мерзкая мышь может превратиться в доброго и веселого Микки-Мауса. А подумав так, он вспомнил лицо отца, его седую шевелюру, выпуклый лоб, крючковатый, как у светлейшего князя Меншикова, нос и закрыл глаза, чтобы подольше удержать в себе это видение, которое все реже и реже посещало его, и ощутил блаженное расслабление, ибо человек, у которого жив отец или мама, — особый человек, он силен, как никто, и счастлив, потому что в любую минуту может припасть к старческой руке, и ощутить такое спокойствие и уверенность в себе, какая неведома никому другому…
С этим он и уснул…
Гарантированная тайна переписки — II
«Дорогой Пол!
Прости, что долго не отвечал тебе, очень уж завертелся на новом месте. Поначалу надо было разобраться, что к чему, спасибо «Дикому Биллу» за его мудрые уроки: «Прежде пойми, кто храпит в соседнем доме, а уж потом думай, стоит ли бить стекла в его спальне».
Ну и страна, этот Голливуд, доложу я тебе! О том, что здесь происходит, еще напишут книги и снимут поразительные фильмы, уверяю тебя.
Итак, по порядку: сначала я должен был познакомиться со всеми теми, кого мне надо будет консультировать, а для этого прочитать, по крайней мере, сорок сценариев о войне, разведке, любви, дипломатии, аферах; подвигах и предательствах. Или я ничего не понимаю, или все, что я прочитал — абсолютная мура. Сюжеты поверхностны, сработаны по тем рецептам, которые были изобретены еще в тридцатых годах, характеры штампованы, как часы, которые выпускают для детей, — ни одного камня, сплошной цилиндр, работают три месяца, потом можно выбрасывать на помойку, ремонту не поддаются.
Я сказал об этом директору сценарной студии Сленсеру; он внимательно меня выслушал и ответил: «Спарк, я вас понимаю, но поймите и вы нас. Мы работаем на аудиторию, которая исчисляется десятками миллионов. Люди смотрят кино после работы. Они устали. Они намахались руками у своих станков и стоек баров, они набегались по канцеляриям и перенервничали, ожидая вечерних выпусков газет, не зная, что стало с их долларом, летит он вниз или ползет вверх. Поэтому в кино они приходят не думать о новом, а успокоенно раствориться в привычном. Мы потеряем аудиторию, если покажем ей свое интеллектуальное превосходство. Как известно, никто не любит тех, кто умнее тебя, самостоятельнее в мышлении, а потому — талантливее. В кино хотят видеть таких людей, каким может стать каждый зритель. Ясно? Вы — честный и храбрый человек, но не стремитесь ломать себе голову раньше времени. Это вам не ОСС, в мире кино перекусывают вены зубами, если только чувствуют в человеке неприятеля».
Как ты понимаешь, вены мне дороги, я боюсь, когда их перекусывают, поэтому я затаился и начал оглядываться, прислушиваясь к тому, что говорят те, кто меня окружает.
И вот тогда-то у меня начали вставать волосы дыбом. Я никогда не думал, что в нашей Америке, да не где-нибудь, а в столице Талантов, ворочается и набирает силу такое черное и дремучее сообщество мракобесов.
Да здравствуют заветы Даллеса: «Растворяйтесь, подыгрывайте, слушайте, говорите, многозначительно улыбайтесь, запоминайте не только слова, но и паузы, не только реплики, но и реакцию на них, сталкивайте разные мнения, провоцируйте спор — только это даст вам возможность составить картину происходящего, приближенную к истине».
Я начал растворяться и провоцировать споры. Лучше бы я этого не делал, честное слово!
Выяснилось, что здесь, как, увы, и везде, происходит одно и то же, типическое: талантливый человек сидит в своем доме и пишет честный сценарий, который покупают, но не ставят; талантливый режиссер снимает фильм, но ему не делают нужного проката, зато бездарные горлохваты, пользуясь общественной пассивностью талантливых, лезут по административной лестнице вверх. Ведь не Чаплин, не Богарт, не Треси, не Трэйси стали президентом актерской Гильдии, а никому не известный Рейган, который хорошо прыгает в седло и умеет плакать скупой слезой настоящего американца над телом друга, убитого в перестрелке с индейцами. Не Хемингуэй, Синклер, Брехт или Ремарк определяют лицо драматургии, а легион бездарей, которые лепят сценарии, как пиццу. Брехту и Ремарку вообще здесь тяжко: в актерской Гильдии здесь прямо говорят, что эти чужие не имеют права писать для американского зрителя, они не понимают нашего характера, пусть сочиняют для еврейских театров или, на худой конец, для немцев; американцы имеют свои традиции, в которые нельзя пускать иностранцев, это разъедает национальную культуру, как ржавчина.
Я не сдержался, возразил: «Сервантес, Гете и Данте не работали в Голливуде! Толстой и Достоевский с Чеховым родились не в штате Огайо! Золя, Мопассан и Франс не торговали соками в Бронксе!» Мне ответили, что я передергиваю факты. Речь не идет о классике, спасибо ей, мы на ней учимся, но сейчас настала пора возрождать наши традиции, а это могут сделать американцы, только американцы и никто, кроме американцев. Я тогда спросил, кого надо считать истинным «американцем»? Можно ли причислить к американцам Армстронга, Фицджеральд или Робсона? Мне ответили, что я жульничаю, потому что разговор идет не о джазе, но о кино и литературе. Тогда я спросил, как быть с Ренуаром и Эйзенштейном, Станиславским и Рейнгардтом? Спор прекратился, я торжествовал победу, все-таки темную некомпетентность можно давить знанием, еще не все потеряно. А через два дня я узнал, что те, с кем я спорил, начали наводить справки, русский ли я, еврей или пуэрториканец, не было ли в моих генеалогических таблицах украинской или немецкой крови, и вообще, не являюсь ли я членом коммунистического кружка. Вот так-то. Воистину, если бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Но ведь речь идет не об одном человеке, но об американцах!
Я предложил Коэллу — это восходящая звезда, пришел в кино из журналистики, хотя и не воевал в Европе, но гитлеризм ненавидит, — сделать ленту о том, как национал-социализм причесал немцев, как он рубанком снял лучший слой, расстреляв и посадив в лагеря самых талантливых, некие дрожжи нации, людей, способных к самостоятельному, оценочному мышлению.
«Кто это будет здесь смотреть? — спросил Коэлл. — Мы исходим из того, что фильм должен понравиться тем, кто кончил семь классов. Значит, надо показывать историю, как простушка, дочь неграмотного сапожника, делается звездой эстрады. Это посмотрят двадцать миллионов, успех и прибыль гарантированы! Или, как нашего парня забрасывают в тыл к наци или к япошкам, а он берет в плен дивизию. При этом он должен притащить в рюкзаке десяток килограммов платины, похищенной им у Евы Браун, после того, как она отдалась ему на альпийской вершине с криком: „Адольф, прости меня, я этого не хотела, он взял меня силой!“ Кто будет смотреть фильм о том, как страна проиграла самое себя, отдавшись в руки банде? Тем более нам, американцам, такое не грозит, пока еще, слава богу, каждый американец говорит, что думает». Я хотел было заметить, что и в Германии люди говорили, что хотели, но только шепотом, зато писать и снимать им не разрешали; мысль завоевывает массу сверху, а не наоборот, — в том случае, конечно, если мыслящие одиночки чувствуют ее, то есть массы, настроение.
Я пришел с этой идеей к Брехту; он только пожал плечами: «Знаешь, — сказал он мне, — я научился чувствовать, всю жизнь меня этому учили в Европе, будь проклята эта наука. Так вот я чувствую, что и здесь что-то грядет. Не годы, а месяцы прошли после того, как кончился Гитлер, но послушай, о чем здесь говорят? Посчитай, сколько раз в здешних салонах традиционалистов за один вечер произносят слово „чужой“ (об Эйслере, Чаплине и обо мне), то же самое — о талантливейшем Дмитруке, а какой же он чужой. Дед — да, но ведь он сам не знает ни одного слова по-украински, пишет свои вещи на классическом английском… А какую интонацию стали вкладывать в слово „красный“? Уже начинают забывать, что сделали „красные“ для победы над Гитлером, забывают, Грегори, не спорь, или делают все, чтобы люди поскорее это забыли. А когда нацию принуждают забыть правду, тогда ее ждут трудные времена, и в первую очередь эти трудности обрушатся на нас, на тех, кто не есть чистый американец. Путь к фашизму — это истеричные разговоры о традициях настоящих арийцев — с этого начался Гитлер».
Сейчас я консультирую (то есть переписываю диалоги и ситуации) картину о наших разведчиках, которых забрасывают на маленький остров возле Окинавы. Я сразу вспомнил алюминиевого дьявола из государственного департамента, ему бы работать на этом фильме, а не мне, он бы выбросил всю «романтизацию» разведки, он бы объяснил им, как надо снимать правду про войну, куда уж нам с тобой, политикам, сидите и не высовывайтесь!
Одно утешение: мои мальчишки гоняют на океан, пляж неподалеку от дома, совершенно изумительный. И ночи здесь такие прекрасные, Пол, такие удивительные! Мы садимся с Элизабет во дворике того дома, где нам удалось снять три маленькие комнаты (здесь жилье дороже, чем в столице), пьем кофе и слушаем, как над нами летают какие-то странные птицы и перекрикиваются друг с другом, спрятавшись в стрельчатых коронах гигантских пальм, которые — видимо, из-за их роста — кажутся мне такими же надменными, как верблюды.
Да, кстати, приезжал Макайр, нашел меня, притащил виски, фрукты и печенье, просидели полночи за разговорами, он в порядке, работает в государственном департаменте, передавал тебе приветы, хотел написать, написал ли? Он, кстати, спросил, не давал ли тебе Брехт пьесу «Мероприятие» перед тем, как ты полетел в рейх в сорок втором. Я ответил, что не знаю этого. Он дьявольски увлечен драматургией Брехта, я их познакомил, Макайр был в восторге, ты же знаешь, какой он увлекающийся. Правда, раньше он увлекался бейсболом, но, видимо, к старости всех начинает тянуть к вечному, а что есть более вечное под солнцем, чем мысль?!
Я очень много думал над твоим письмом. Я еще не готов к спору. А может, не к спору, а, наоборот, к согласию. Сначала мне показалось, что ты просто-напросто раздражен и в подоплеке этой раздраженности твое горе с Лайзой. Повторяю, забудь о ней. Чем скорее ты это сделаешь, тем будет лучше. Я знаю, что говорю. Но чем больше я вчитывался в твои строки, тем больше понимал, что дело тут не в твоей раздраженности, а в том, что у тебя иной угол видения, ты по-прежнему в деле, в отличие от меня.
Подумай и напиши мне про то, о чем я тебе рассказал. Как бы ты вел себя на моем месте?
Твой Грегори Спарк.
P.S. О твоей просьбе по поводу нацистов в Лиссабоне самым занятным бесом был некий Гамп из военного атташата, но вроде бы это его псевдоним, настоящая фамилия то ли Веккерс, то ли Виккерс. У него были очень сильные связи с портовиками и владельцами пароходных компаний, ходивших на Латинскую Америку.
Славился он еще и тем, что имел целый штат роскошных девок, которыми снабжал дипломатов. У него были не только европейские женщины, но и прекрасно подготовленные азиатки, в основном японки и таиландки, приехавшие сюда из Парижа после начала войны.
Что с ним случилось потом, я не знаю. Если вспомню еще что — напишу.
Твой Г. С.»