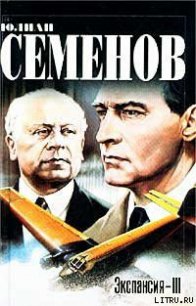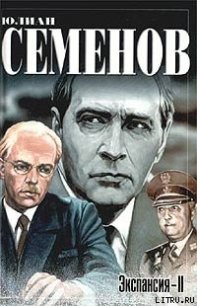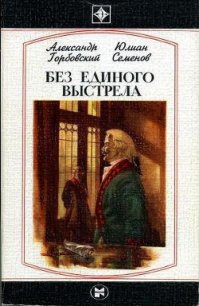Экспансия – I - Семенов Юлиан Семенович (серия книг TXT) 📗
Штирлиц — IX (Бургос, октябрь сорок шестого)
Он не знал, сколько времени продолжалось расслабленное забытье, в которое он провалился, едва только голова прикоснулась к подушке.
Он проснулся, потому что ему показалось, будто кто-то тронул его за плечо. В номере, однако, никого не было: тишина, привычное одиночество; только здесь просторно, не как в мадридском пансионате; два окна, альков, большая ванна; человек быстрее привыкает к маленьким пространствам; здесь, в огромном номере, Штирлиц чувствовал себя неуверенно.
Спи, сказал он себе. Ты вырвался. Завтра ты будешь на границе, поэтому надо как следует отдохнуть; все позади, ты вернешься на Родину, только наберись сейчас сил, нужно быть собранным и крепким, завтра будет трудный день, но ты сделаешь все, что задумал, только уверенное желание приносит победу, ты победишь. Повернись на правый бок, как учил папа, начни считать до ста и сразу уснешь. Нет, возразил он себе, я не усну, и это очень плохо, действительно плохо, потому что буду совершенно разбитым, а когда задумано главное дело, нужно ощущать свое тело собранным, а мозг отдохнувшим, готовым на стремительные, но выверенные решения.
Он посмотрел на часы — половина третьего; а я хотел встать в семь, не получилось. А может, высплюсь в автобусе? Нет, в автобусе не поспишь, нигде нет таких шумных и веселых людей, как в Испании, да и ехать предстоит через те места, где я был девять лет назад; возвращение в молодость — если тридцать семь лет допустимо считать молодостью, — бьет по нервам, я не смогу не думать о Яне Пальма, о Васеньке, который был Базилем, о прекрасной Клаудии, я не смогу не вспоминать, как мне устроили переход за линию фронта к нашим, к Владимиру Антонову-Овсеенко и Михаилу Кольцову.
Штирлиц поднялся с кровати, света включать не стал, поймав себя на мысли, что по-прежнему боялся слежки, хотя полагал, что наблюдения сейчас не должно быть, найти его практически невозможно, тем более субботний день, в полиции ведь тоже работают люди, имеют же они право на отдых; пожалуйста, отдыхайте как следует, милые жандармы, пейте, гуляйте с подругами, спите, только не сидите в своих кабинетах на Пуэрта-дель-Соль возле телефонных аппаратов, не надо, сядете послезавтра, когда меня не будет уже в вашей стране…
Он подошел к столу, на котором высился большой приемник; Штирлиц не слышал иностранного радио с тех пор, как оказался в Испании, потому что в его пансионате старик портье держал репродуктор, который передавал сообщения одной лишь мадридской станции, а знакомых у него не было — он не имел права их заводить без санкции связника из ОДЕССы, иначе лишат дотации, на что тогда жить, — так что информацией, кроме той, которую организовывали франкисты, он не располагал, о реальном положении в мире скорее догадывался, чем знал, а он относился к числу таких людей, которые верили только факту, а никак не домыслу, какой в нем прок, расслабляющая мозг маниловщина, безысходность…
Наверное, не работает эта древняя бандура, подумал Штирлиц, включая приемник; он, однако, ошибся, бандура работала, причем отменно. Он долго пытался поймать Москву; безрезультатно. Германия — как восточная зона, так и западная — передавала фокстроты; Париж вальсировал; повезло с Англией — он нашел станцию, которая транслировала передачу из Нюрнберга; обозреватель комментировал речи правозаступников; более подробно остановился на выступлении адвоката, защищавшего Альфреда Розенберга, цитировал отрывки из речи:
— «В июле 1942 года Борман писал Розенбергу. Смысл письма Бормана, которое в оригинале не существует, сводился к следующему: славяне должны на нас работать, а те, кого мы не можем использовать, пусть умирают. Заботиться о состоянии их здоровья излишне. Плодовитость славян нежелательна. Образование опасно. Достаточно будет, если они смогут считать до ста. Каждый образованный русский — наш враг в будущем. Религию мы оставим им как средство отвлечься. Что касается их снабжения, то обеспечить надо только самым необходимым. Мы — господа и должны получать все в первую очередь.
На это письмо ближайшего сотрудника Гитлера Розенберг мог дать только один ответ: выразить внешнее согласие и сделать кажущуюся уступку. Такая удивительная внешняя перемена в установках начальника вызвала озабоченность в восточном министерстве.
Розенберг, давая показания, сказал, что он согласился с этим только для того, чтобы успокоить Бормана и Гитлера…
Двенадцатого октября сорок четвертого года Розенберг через Ламмерса передал фюреру прошение об отставке…
Не получив ответа на свое прошение об отставке, Розенберг неоднократно пытался поговорить лично с Гитлером, но безуспешно».
Господи, как коротка людская память, подумал Штирлиц. Розенберг, видите ли, подал прошение об отставке! Но ведь в октябре сорок четвертого наши войска стояли под Варшавой; вся Родина была освобождена от немцев еще в августе, что ж было делать министру «восточных территорий»?! Без министерства и без территорий?! На что надеется адвокат, говоря об «отставке» в том зале, где сидят представители победивших армий?! Если побежденные норовят забыть все, что только можно забыть, то ведь помнят победители! Они просто не вправе забывать, это страшно, когда люди забывают историю! В этом сокрыта какая-то устрашающая неблагодарность, а ничто не карается так жестоко, как неблагодарность, — не только в человеческом, но и в государственном смысле! Сколько примеров сохранила история, когда державы, предавшие основополагающую идею, — как это было, например, с республиканским Римом, — оказывались погребенными под обломками того изначалия, на котором и состоялось их величие…
Адвокат продолжал:
— …В качестве примера особой жестокости подсудимого обвинение неоднократно указывало на так называемую акцию «Сено». Здесь речь идет о плане командования центрального фронта эвакуировать из зоны операций пятьдесят тысяч детей, поскольку они являлись большим бременем в зоне операций, причем большинство из них не имело родительского ухода… Розенберг как имперский министр по делам восточных оккупированных областей был вначале против этого, так как, с одной стороны, он боялся, что указанное мероприятие может быть рассмотрено как угон детей, и, с другой стороны, потому, что эти дети не могут представлять собой значительного укрепления военной силы. Начальник оперативно-политического штаба связался с Розенбергом и изложил ему, что центральный фронт придает решающее значение тому, чтобы дети попали в империю не через генерального уполномоченного имперского министра по вопросам оккупированных восточных областей… В обоснование своего ходатайства перед министром было также добавлено, что подростки не представляют собой существенного укрепления военной силы, но что важным является уменьшение биологической силы славянства на длительное время; такого мнения придерживается не только рейхсфюрер СС, но даже и сам фюрер. В конце концов Розенберг дал согласие на проведение данного мероприятия. В этой связи следует сказать: здесь речь шла о таком круге вопросов, который по административной линии не входил в подчинение Розенбергу. Он не хотел уничтожить чужой народ, даже несмотря на то, что в качестве обоснования была приведена необходимость биологического ослабления русских.
Ах, какой же мерзавец этот адвокат, подумал Штирлиц. Как только люди в зале суда терпят его слова?! Как судьи позволяют произносить то кощунственное, что он облекает в форму юридического доказательства?! Погоди, возразил он себе, так ты скатишься черт знает куда. Нельзя добиться добра жестокостью. Мы не вправе повторять гитлеровцев, которые не позволяли своим противникам говорить то, что те думали. Демократия предполагает право на высказывание. Даже если это фашизм? — спросил себя Штирлиц. Тогда это не демократия, если она позволяет свободно проповедовать идею Гитлера. Тогда это пародия на демократию. Или же предательство демократии. Как можно защищать изувера, выдвигая довод о том, что «необходимость биологического ослабления противника» не предполагала «уничтожение русского народа». А что же тогда она предполагала?! Усиление его, что ли?!