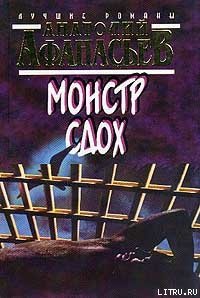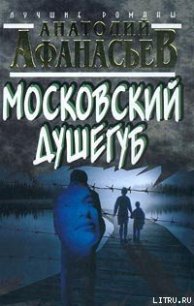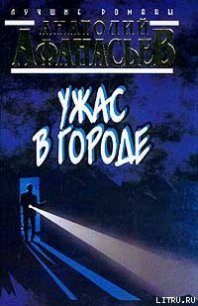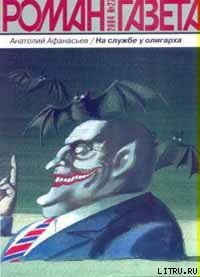Ярость жертвы - Афанасьев Анатолий Владимирович (книги онлайн полностью бесплатно txt) 📗
Среди уголовщины Могол был известен тем, что в один из побегов питался человечиной, не так, как это делают понуждаемые голодом бродяги, то есть с понятной целью добраться до населенных мест, а как бы в охотку и для собственного удовольствия. Перед уходом из лагеря специально откормил двух сожителей натурально на убой, не позволяя им неделями двигаться дальше чем до сортира. На «Большую землю» прихватил с собой пятерых поделыциков и всех сожрал, кроме шустрого мальчонки Миши Четвертачка, который угодил ему тем, что в полевых условиях, на костерке так ловко коптил мясные ломти, что по вкусу блюдо ничем не уступало шашлыку из «Арагви». Впоследствии, в созданной Моголом империи, Миша занял завидное положение. Тут я сразу понял, почему у Четвертачка глаза все время казались подмокшими: видно, по мягкости сердца до сей поры сокрушался о приконченных и съеденных сотоварищах.
Организаторские способности Могола в полной мере проявились в эпоху Горби, когда по Москве и по всей России еще только зачинались группки доморощенных рэкетиров и вид у них был сопливый и жалкий. Полууголовная шваль, накачавшая мускулы по подвалам, но не желавшая работать и не умеющая честно воровать, начала пробовать зубки в прибыльном и легком ремесле: выколачивать деньги из пугливых отечественных дельцов. Их всех, возможно, передавили бы поодиночке, если бы не явился Могол. Он сразу почуял, где пахнет жареным, и за короткий срок сумел придать позорному ремеслу вполне цивилизованные формы.
Ко второму году царствования Бориса, когда уже с очевидностью проявился масштаб разрушения страны, под началом Могола были сотни, если не тысячи, прекрасно вооруженных и организованных людей, возглавляемых нередко бывшими афганцами или офицерами спецслужб, вышвырнутыми из органов по подозрению в нелояльности; при необходимости эта армия была способна в одночасье захватить Москву и удерживать ее сколь понадобится долго.
Картина, нарисованная Гречаниновым, была ужасна, и я рискнул высказать сомнения:
— Что-то не очень верится, Григорий Донатович. Чтобы один человек, обыкновенный уголовник…
— Не совсем обыкновенный, — сказал Гречанинов. — И уж совсем не один.
По его словам выходило, что Могол не чужд был модным демократическим веяниям и много занимался благотворительностью. Не гнушался дружбой с известными актерами и политическими деятелями. Чувствуя себя в полной безопасности, пристрастился к публичности и теперь часто появлялся на помпезных презентациях и официальных приемах, был по-домашнему вхож в правительство. Недавно на какой-то праздничной тусовке, транслируемой по телевидению, некий старый, выживший из ума актер, который был совестью нации еще с брежневских времен, произнес пышный благодарственный тост в его адрес. Актер признался, что денно и нощно молит Господа о здравии таких спонсоров, как Могол (назвав, естественно, гражданскую фамилию Могола — Сверчков), ибо без ихнего попечения, без ихней щедрости не было бы у нас ни культуры, ни искусства и вообще ничего, а остался бы опять один ГУЛАГ, как при коммунистах. Растроганный Могол облобызал старикашку и подарил ему на память золотую брошку баснословной цены, отчего совесть нации чуть не хватил родимчик. Назавтра снимок с их братским поцелуем обошел всю прогрессивную прессу, с пояснительной припиской: «Отечественный бизнес протягивает руку умирающему искусству». Там же была напечатана восторженная заметка, повествующая о том, что известный меценат и миллионер Сверчков в целях сохранения для потомков национального достояния намерен приватизировать Большой театр и некоторые крупные музеи в Москве. Заминка была лишь в том, что Чубайс и Лужков никак не могут договориться, кому из них лично принадлежит московская недвижимость и кто вправе ею распоряжаться по Конституции. И это досадно, горевал журналист, потому что из-за недальновидности некоторых государственных деятелей, хотя, безусловно, и настроенных патриотически, многие исторические ценности уже уплыли за границу, где не имеющие ничего святого за душой западные дельцы вовсю ими спекулируют.
— Не может быть! — воскликнул я. — Григорий Донатович, этого просто не может быть.
— Чего не может быть? — По трассе мы шли на ста тридцати километрах, и моя старенькая тачка пресмертно вибрировала.
— Страны, в которой мы очутились, просто не может быть. Это порождение больной фантазии.
— Мне тоже иногда так кажется. И все-таки этот мир реален. Пощупай свои ребра.
Обогнав несколько грузовиков, мы приближались к повороту на Валентиновку. Шоссе перегружено, но видимость была хорошая. На небе с самого утра ни облачка. Душой я был уже с Катей.
— Хорошо, пусть так. Пусть все это реально — и Могол, и все прочее. Но я-то зачем ему понадобился со своей несчастной квартиркой? Разве это его масштаб?
— Правильный вопрос. Сам Могол про тебя знать не знает. Его интересуют банки, корпорации, контроль над рынками сбыта. Однако московский рэкет — тоже целая индустрия, и он один из ее главарей. Он лучше других понимает, что поломка одного винтика в таком громоздком, но четко отлаженном механизме грозит застопорить всю махину. Он не должен допускать ни малейших сбоев. Тебя зацепило при накате на министерство, на Гаспаряна, замотало шестеренкой. Теперь освободить тебя можно, только повредив центральный пульт управления. А это и есть Могол. Доступно объясняю?
— Бред какой-то! — твердил я как заклинание.
…Вскоре нам стало не до разговоров. По участку Гречанинова бегали люди, и там же стояли две пожарные машины. Вился над землей сиреневый дымок, и это было все, что осталось от симпатичного деревянного домика.
Гречанинов остановил машину, не доезжая метров пятидесяти, приткнул ее к чужой изгороди.
— Сиди здесь! — приказал безоговорочно. Да я, наверное, и не смог бы выйти: внутри как-то все обмякло. Я видел, как он смешался с людьми, как расхаживал по участку туда-сюда, с кем-то разговаривал, но все это безо всякого соучастия. Безразличие, подобно тяжелой воде, сомкнулось надо мной.
Потом он вернулся, втиснулся на сиденье, озадаченно объявил:
— Дом сожгли, но Кати нету. Значит, жива. Приезжали на двух «Волгах», номера заляпаны. Интересно, да?
Вид у него был как у любителя кроссвордов, затруднившегося с разгадкой. Я молчал.
— И что особенно любопытно, говорят, девушка сама села в машину.
— Неужели никто не пытался помешать?
— Почему не пытались? Соседи у меня отчаянные. Двоих увезли в больницу. Саша, ты о чем думаешь?
— Ни о чем, — сказал я. Это было правдой.
— А я вот о чем. Об этом месте знали трое: ты, я и Катя. За мной «хвоста» не было, да и не могло пока быть. Ты кому-нибудь сообщал, где находишься?
— Нет.
— Какой же вывод?
— Вы сами в это не верите.
— Да, не верю. Но женщина — существо непредсказуемое… Что ж, поехали дальше?
Мне было все равно, что делать: ехать, сидеть или выйти из машины, Лечь на землю и больше никогда не вставать. Настроения жить тоже не было.
— Она жива! — повторил Гречанинов, соболезнуя.
— Все может быть, — согласился я.
Часть 3. На узенькой дорожке
Глава первая
«Жигуленок» оставили на платной стоянке у Щелковской, до Таганской площади доехали на такси, оттуда пешком, дворами, переулками, добрались до квартиры Гречанинова (или черт знает чьей!). Я ни о чем не спрашивал, плелся за хозяином, как собачонка, совсем выбился из сил. На ходу клевал носом, но чувствовал, что не усну, если лягу.
В квартире, скромно меблированной, чистой, отдышались. Точнее, это я отдышался: Гречанинов был так же свеж и полон энергии, как утром. Усадил в кресло, принес бутылку коньяка, коробку шоколадных конфет. Налил мне полный бокал, себе — на донышко, для видимости.
— Выпей, Саша!
Я послушно выпил и положил в рот конфету. Вкуса не ощутил ни от того, ни от другого, но озноб постепенно утих.
— Ну что, получше?