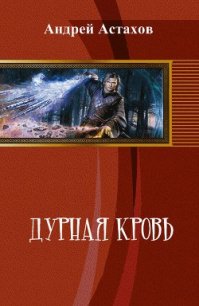Дурная кровь - Даль Арне (читать книги без .TXT) 📗
— А ты был дома у Хасселя?
— Заходил. Во всяком случае, никаких доказательств его связей с КГБ не увидел. Большая, стильная квартира в районе Кунгсхольмен, видно, что холостяцкая. Есть тренажеры. Хочешь взглянуть?
Она покачала головой.
— Я сейчас занята. Попробуй уговорить Хорхе прогуляться с тобой по солнышку.
Он кивнул, минуту потоптался в дверях, неуверенно глядя на магнитофон, потом повернулся и вышел.
Черстин посмотрела на магнитофон. Потом на закрытую дверь, потом снова на магнитофон.
Она нашла то место, которое Йельм проскакивал, перематывая пленку то туда, то обратно. Нажала кнопку и вскоре услышала:
— Кто ваш новый муж?
— Это не имеет отношениям данному делу.
— Я просто хотел узнать, кого вы предпочли Хасселю. Что вы нашли в нем такого, чего не было в вашем первом муже. Различия. Это поможет мне лучше понять, что за человек был Хассель.
— Я живу с мужчиной, который работает в турбизнесе. Нам хорошо вместе. Он много работает, но занимается делами на работе, а дома уделяет внимание мне. У нас нормальная жизнь. Я ответила на ваш вопрос?
— Думаю, да, — ответил Пауль Йельм.
Черстин Хольм посмотрела на закрытую дверь.
И долго не сводила с нее глаз.
* * *
Йельм уговорил Чавеса “прогуляться по солнышку”. Воспользовавшись моментом, когда друг пожаловался на взопревшую задницу, Йельм оторвал его от компьютера, и оба наших незаметных героя покинули здание полицейского управления, предоставив находиться там людям, более избалованным вниманием общественности, таким, например, как Вальдемар Мёрнер. Кстати, чем закончилось дело с жалобой репортера “ЭйБиСи” на “серьезные травмы губ”, которые ему нанес Мёрнер “путем резкого вдавливания в рот микрофона”, так и осталось неизвестным. Видимо, эту жалобу сочли не заслуживающей внимания.
На улице их гостеприимно встретил еще один яркий по-летнему теплый день. Осень пришла в Арланду, но еще не добралась до Стокгольма.
На Чавесе был легкий льняной пиджак практичного серого цвета, до поры до времени маскировавшего потребность в стирке. Невысокий крепкий латиноамериканец Чавес энергично разминал затекшую спину, шагая рядом с Йельмом по улице Кунгсхольмсгатан.
— Интернет, — мечтательно говорил он. — Бездна возможностей. И куча дерьма.
— Как в жизни, — философски заметил Йельм.
Они свернули на Пиперсгатан, поднялись на горку, потом по крутым ступенькам вскарабкались на Кунгсклиппан, где ряды домов выстроились в ряд, стараясь лучше разглядеть простирающийся внизу Стокгольм. Некоторые из них смотрели на Ратушу и полицейское управление — на эти дома спрос был относительно невелик. Другие наслаждались видом Кунгсхольмского храма, набережной и залива Риддарфьерден, третьи слегка презрительно подмигивали стеклянному Сити и устремляли взгляд дальше, к престижному району Эстермальм. В одном из таких домов и жил сын Ларса-Эрика Хасселя от первого брака.
Йельм и Чавес позвонили в дверь. Им открыл светловолосый молодой человек с редкой короткой порослью на подбородке, в футболке без рукавов и мешковатых брюках.
— Легавые, — без всякого выражения произнес он.
— Так точно, — сказали хором легавые и показали свои удостоверения. — Разрешите войти.
— Вас попробуй не пусти, — сказал Хассель-младший и пригласил обоих наших героев в квартиру.
Квартира была маленькая, однокомнатная, с закутком для приготовления пищи. Рольставни цвета морской волны преграждали путь солнечным лучам. Компьютер бросал голубоватый свет на стены возле письменного стола, остальная часть квартиры тонула в темноте.
Чавес дернул шнурок, и рольставни с резким скрипом поползли вверх — этот звук странно напомнил другой, который издал Мёрнер, когда его лягнул Роберт Е. Нортон.
— Редко поднимаете ставни, — констатировал Чавес. — А зря, такой вид из окна пропадает.
В этом месте улица резко уходила вниз, и был виден мост, соединяющий остров с “материком”.
— Вы занимались? — спросил Йельм. — Ваша мать сказала, что вы изучаете литературу.
Щурясь от ярких лучей солнца, атаковавших его жилище, Лабан Иеремия Хассель бледно улыбнулся.
— Ирония судьбы…
— Что вы имеете в виду? — спросил Йельм и перевернул стоявшую вверх дном кофейную чашку. Делать этого не следовало: по комнате сразу поплыл резкий запах плесени.
— Мой отец был одним из ведущих литературных критиков Швеции, — сказал Лабан Иеремия, безучастно следя за действиями Йельма. — Ирония заключается в том, что я, по мнению окружающих, родился, так сказать, под литературной звездой. На самом деле мой интерес к литературе есть не что иное, как бунт против отца. Не знаю, понимаете ли вы, что я имею в виду, — тихо добавил он и сел на обшарпанный фиолетовый диван образца шестидесятых годов.
Мебели в этой однокомнатной квартире было мало, а та, что имелась, выглядела жалко. Было очевидно, что материальный мир мало интересовал живущего здесь человека.
— Думаю, понимаю, — сказал Йельм, хотя на самом деле пока не мог понять, как соотносятся вполне современный внешний вид молодого человека и внутренний хаос, царящий в его душе. — Ваше представление о литературе диаметрально противоположно отцовскому.
— Он не одобрял моих занятий, — пробормотал Лабан Хассель, не поднимая глаз от облезлого стола. — Литература для него была проявлением буржуазного декаданса. Учиться этому не надо. Это можно только критиковать. Он продолжал вести себя так даже тогда, когда сам сделался правее всех правых.
— Он не любил литературу, — кивнул Йельм.
Лабан на короткое мгновение поднял голову и с удивлением взглянул на Йельма. Потом снова опустил глаза в стол.
— Я люблю ее, — прошептал он. — Без литературы я бы просто умер.
— Твое детство нельзя назвать счастливым, — продолжал Йельм тем же доброжелательным, спокойным, уверенным тоном. “Как отец”, — подумал он.
Или как психолог.
— Я был совсем маленьким, когда он нас оставил, — произнес Лабан, и стало ясно, что он говорит это не впервые. У него явно был большой опыт общения с психотерапевтом.
Лабан повторил:
— Я был совсем маленьким. Когда он ушел от нас. Я мечтал о нем, он стал для меня мифом, героем, великим, знаменитым, недосягаемым мыслителем, я увлекся книгами, и чем больше я читал, тем привлекательнее становился его образ. Я решил, что не буду читать его произведений, пока не почувствую себя достаточно зрелым. Тогда я их прочту, и мне все откроется.
— Так и вышло?
— Да, хотя результат получился неожиданный. Мне открылось его двуличие в вопросах культуры.
— Однако вы до последнего времени продолжали поддерживать с ним отношения?
Лабан пожал плечами, вид у него был отрешенный.
— Я все ждал, а вдруг он расскажет что-то важное, что-то значительное о своем прошлом. Но этого не произошло. Общаясь со мной, он всегда держался добродушно-развязного тона и говорил о пустяках. У меня все время было чувство, что я попал в раздевалку “АИК”[28] после матча. Знаете, этакий рубаха-парень, свой в доску. А что за личиной — не видно. Я зря надеялся увидеть его настоящее лицо. Может быть, оно открылось в момент смерти…
— То есть отношения между вами были поверхностными?
— Если это вообще можно назвать отношениями.
— Однако он сообщил вам, что получает письма с угрозами.
Лабан Хассель ничего не ответил, он сидел, уткнувшись взглядом в старую столешницу. Казалось, он даже стал меньше ростом. Наконец он проговорил:
— Да.
— Расскажите все, что вы знаете.
— Я знаю только то, что кто-то терроризировал его по электронной почте.
— Почему?
— Не знаю. Он просто упомянул это, мимоходом.
— Но вы все же рассказали об этом матери?
Лабан впервые посмотрел на него в упор. Было видно, что он задет не на шутку. В его глазах отразилась внутренняя сила, которой могут похвастаться далеко не многие молодые люди двадцати трех лет. Перехватив этот взгляд, опытный и лишь до поры бездействовавший сыщик Йельм насторожился.