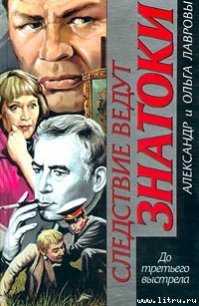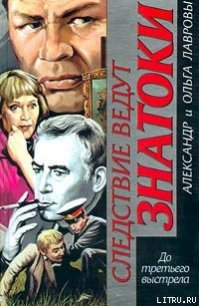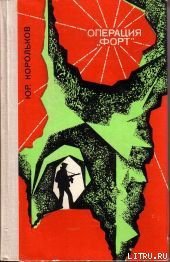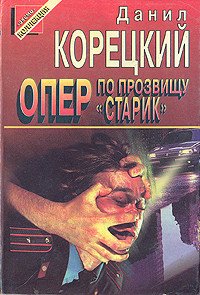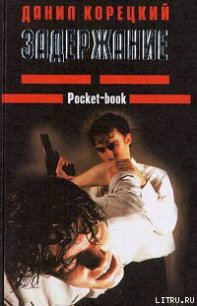Антология советского детектива-43. Компиляция. Книги 1-20 (СИ) - Корецкий Данил Аркадьевич (читать бесплатно книги без сокращений TXT) 📗
Конечно, Инка зря подала на развод, потом сама жалела. Подумаете, муж изменил! У меня и мысли не было уходить из семьи, хотя роман был что надо, и начался красиво, в Брюсселе, во время визита одной делегации. Голова закружилась, когда познакомился с красавицей на пышном банкете, утром позвонил ей в отель и предложил услуги гида: сначала все прелести живописи и архитектуры, подъем на Ватерлоо с забегом в красочные лавки, овеянные духом Наполеона. Затем утепленный горящими свечами ресторанчик, скрипач в белом фраке, медленное кружение под вальсы Штрауса (казалось, что рухну на паркет от любви). «Заиндевевшая в мехах, твоя чертовская улыбка…», хотя и не было мехов, лишь ее жаркое тело в мини-юбке, рывок на машине на квартиру приятеля, оставившего ключи на время отпуска.
И вскоре, уже в Москве, романец с телефонисткой на центральном телеграфе Зоей, очаровательной, несмотря на кривоватые зубы. Два романа подряд — форс-мажор в моей спокойной жизни, признаться, радости я не чувствовал, а больше нагрузку. С Зоей встречался раз в неделю, больше для здоровья (жену не выдерживали нервы, перестал спать с ней в одной постели, казалось, что придушит подушкой), скучища была дикая, большей частью говорили о ценах. [130] Инка раскрыла мой роман, разбила вазу о мою голову, боднула сама пару раз стенку и после этого ударилась в загул, не считаясь с правилами этикета. Меня на сторону отнюдь не тянуло, да и вообще хотелось послать все подальше, уехать в шалаш на берегу речки и ловить там рыбу в полном одиночестве. Но угнетала амбиция: как же так?! Жена гуляет, а я словно больной… Стал похаживать в дом моделей, но столкнулся с неожиданностью: модели были так хорошо одеты, что себе я казался конюхом под ручку с принцессой, да и в большинстве своем довольствовались ужином и не рвались на интим, да и я только радовался этому, видно, ужин давал мне полное удовлетворение. Наверное, меня устроил бы небольшой гарем, куда я наведывался бы как на торжественное собрание или просто на летучку, где толкал бы короткий спич. Мечтал я о большом имении, вспоминал Иртеньева у Толстого: приезд барина в родное имение без жены, умной и интеллигентной (что уже поднадоело), рассеянная скучная жизнь, а тут солдатка с половой тряпкой, вытирающая полы, с крепким и затягивающим запахом пота, — когда она нагибалась, мелькали крупные ляжки, и задница двигалась волчком, манила. Помнится, в юности я дрожал, читая о нервном свидании в овраге, туда она пришла после бани и спросила просто: «Голомя?»
Куда летишь, мой верный конь, и где опустишь ты копыта? Да никуда я не летел! Прокручивая в мозгах тот бурный период, слабо напоминавший похождения монахов в новеллах Боккаччо, прихожу к выводу, что это был подарок за аскетическую юность. В конце концов, я потерял свою девственность лишь в девятнадцать лет (стыдливый румянец заливает лицо, будет стыдно смотреть в глаза детям и внукам!), когда влюбился в замужнюю женщину и не отходил от нее целых четыре года. Орден за постоянство чувств, а мужу — звезду Героя! И все эти золотые денечки, которые положено прожигать на полную катушку, прошли практически в браке (нет ничего стабильнее отношений с замужней любовницей) и институтской зубрежке банальных истин, в самоусовершенствовании, вычитанном у Льва Николаевича. Вплоть до многочасовых бдений в Ленинке над томиком полузапретного Мандельштама и — о, ужас! — конспектировании «Феноменологии духа» скучнейшего Гегеля, тоже добытого с превеликим трудом.
Но духовный поиск — это тоже энергия, это тоже часть непознанного либидо. К тому же я был психом, помешанным на собственном здоровье: исправно занимался спортом, старался больше есть овощей и фруктов, постоянно мучился, что взял на грудь лишнего. Давал зарок в рот не брать месяц или полгода, не курил, ходил по врачам, и многие считали меня хлипким и дышащим на ладан. После тридцати плюнул на здоровье, иногда закладывал (но помаленьку), спортом прекратил увлекаться именно тогда, когда умные люди стараются поддерживать форму, от врачей бежал, как от чумы.
И все-таки я по-своему любил жену свою Инку, странноватую, с дурным характером, со скандалами на почве ревности, с полным непониманием поэзии и изящных искусств (хотя делала вид, что проникается моими виршами) — сюда бы еще добавить симоновское «…злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, но мою», — и картина станет совершенно законченной и понятной.
Любил ее — вот несчастная натура (говорят, что сильное чувство признак импотенции!) — любил, даже когда встречался с другими, тогда даже больше, чем обычно, и в чужом затемненном лице мерещилось ее, Инкина улыбка, и я боялся, что Фата Моргана исчезнет… Несчастный, несуразно устроенный человек! Разве можно делать такого огромного слона из малюсенькой мухи? Ведь существуют же на свете совершенно нормальные люди, имеющие как минимум по десять любовниц, они ублажают и себя, и дам, и все общество.
А если взглянуть на собственную персону как бы с Неба? Ну почему нужно все время учиться, пробиваться в люди, думать о карьере, жениться, разводиться? И к тому же вечно не хватает денег! Почему нужно расходовать драгоценную энергию не на радости жизни вроде рыбалки, а на некоторые весьма сомнительные субстанции? Совсем другие проблемы волновали, например, какого-нибудь принца Голштинского: родился и жил во дворцах и замках, окруженный драгоценными чашами, изваяниями греческих богов и богинь, сверкающим хрусталем, немыслимой фарфоровой посудой, старинной мебелью, и в ус не дул! Вокруг гувернеры и слуги в париках, заранее намечена и супруга (с ней можно и не жить, важно показываться на людях), всюду и везде почет, пышные пиры, празднества и народные гуляния. Отряды лакеев втягивали на плечах серебряные блюда с жареными гусями, фаршированными молочными поросятами, утопавшими в собственном соку юными барашками. Бочки с мальвазией, ряды, уставленные бутылками мозельского и рейнского, хмельные меды, валящие под стол, — это вам не нынешние изыски пресыщенной цивилизации, начиненные химией, подогретые искусственным солнцем и разбавленные отнюдь не родниковой водой! И наконец, путешествия по миру в разукрашенных фрегатах с надутыми парусами, орудийные залпы при заходе в пристань, красные ковровые дорожки на трапе, звенящая медь духовых оркестров…
Почему не родился я Голштинским принцем? [131]
Почему суждено мне думать ежедневно о хлебе насущном, переезжать из одной квартирки на другую (не дворцы ведь! да и мебелишка больше напоминает хлам!). И посуда куплена в дешевом универмаге! и нет Ватто или Снейдерса в грузных золоченых рамах. Лишь подарочки друзей-художников, смешные безделушки, место которым в сортире. У глупого Голштинского принца — огромная зала с библиотекой еще от предков, там увесистые фолианты на латыни… «Власть отвратительна, как руки брадобрея» — эти Мандельштамовы строки я любил повторять, а на деле власть сладостна и прекрасна, и приятно, когда заглядывает в глаза подхалим, и водитель предупредительно открывает дверцу «Мерседеса», и крепнет голос на совещании, где подчиненные смотрят в рот. А как они входят в кабинет, где высится за дубовым столом твоя внушительная фигура! Чуть подгибая ноги, стараясь не идти, а пропорхнуть, дабы не нарушить покой, не загреметь стулом, не кашлянуть во время твоего монолога, а сосредоточенно и почтительно внимать. Не в этой ли тяге к власти и есть суть натуры Homo Sapiens? И не только чиновничьих эполет это касается, не только власти золотого тельца, даже чистый литературный порыв — всего лишь стремление подчинить себе чужие умы и души, да так, чтобы у них замирали сердца от текста или чтобы разрывалась грудь от неистового хохота. «Писатель — это второе правительство», — начертал Солженицын и властвовал над умами, пока заряженные им умы не пришли к власти и не перестали обращать на него внимания.
Уже разбогатев, мечтал я поехать с отцом на родину деда, в Тамбов. Но отец бесследно исчез, и поехал я туда в одиночестве, совместив вояж с делами бизнеса. В отеле было так душно, что только водка вгоняла в сон, и то не надолго: уже в пять утра глаза разлеплялись сами, утопали в поту, перетекавшем на подушку, не помогали ни мокрое полотенце, ни раскрытая дверь в коридор. Жизнь в провинции не умерла, хотя не платили ни пенсий, ни зарплат, по тамбовским улицам до двух часов бродили юноши и девушки, они пили кока-колу и курили в небольших барах, причем девицы оскорблялись, если их считали проститутками. В день рождения Пушкина местная интеллигенция вкупе с так называемой образованщиной декламировала стихи у памятника поэту в местном парке, таким же образом отмечали юбилеи Боратынского в Маре, где некогда стояло его имение, а осталась лишь трава-мурава да кладбищенские плиты. Но и там культура била ключом, недалеко от креста, недавно поставленного в память поэта, затаилось в рощице здание, похожее на музей, где трудились полные матроны из советских чиновниц по культуре. Они и угощали в бывшем сельсовете мятой картошкой, черной от старости селедкой, частиком в томате, выложенным на блюдце, жареным салом (о, бедная печень!) и шматом колбасы.