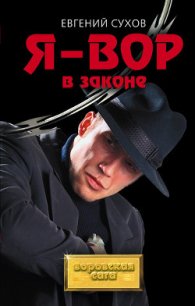Я украл Мону Лизу - Сухов Евгений Евгеньевич (бесплатные версии книг .TXT) 📗
– А может, тебе в камеру еще и фортепьяно приволочь? – злобно процедил надзиратель, пытаясь закрыть дверь.
– Если вы не принесете мне мандолину, то я разобью себе голову о стену! – просунул Винченцио в проем ногу.
– Ладно, принеси ему мандолину, – распорядился из коридора чей-то начальственный голос. – Тут в кабинет к начальнику целая толпа репортеров заявилась, и все хотят с ним переговорить. Еще не хватало, чтобы они что-то в газету понаписали.
– Хорошо, будет тебе мандолина, – смилостивился надзиратель. – Ишь ты, знаменитость! – с силой захлопнул он дверь камеры.
Утро все активнее вступало в свои права, освещая самые дальние уголки камеры. На серой некрашеной стене, как при проявлении фотобумаги, отчетливо проступили надписи, нацарапанные прежними сидельцами: на чешском, сербском, польском, под самым потолком Перуджи разобрал надписи на кириллице. Оставалось только гадать, что же во Флоренции делали арестанты из далекой России.
Дверь отворилась, и в камеру ступил прежний толстый надзиратель, сжимая в руках мандолину.
– Твоя? – невесело полюбопытствовал он.
– Моя.
– Держи, едва не выбросили с остальным мусором.
Дверь захлопнулась. Осмотрев мандолину, Винченцио убедился, что инструмент в целостности. Правда, у самого грифа облупился лак, но вряд ли столь незначительный недостаток скажется на качестве звучания. Играть на мандолине Винченцио научился еще в раннем детстве, удивляя своими способностями многочисленное семейство. Одно время он думал даже всерьез заняться музыкой, но страсть к авантюрам и риску перевесила призвание. Однако мандолину он любил по-прежнему и в редкий день не брал ее в руки. Куда бы он ни отправлялся, всюду брал ее с собой, а хандру прогонял веселыми задорными аккордами. Достаточно ему было взять инструмент в руки, как из настороженного малоразговорчивого человека он превращался в улыбчивого обаятельного исполнителя с красивым баритоном, без труда удерживая внимание даже самого искушенного зрителя. Особенно удавались ему неаполитанские песни, славившиеся своей мелодичностью. Он знал их в таком огромном количестве, что если бы однажды ему пришлось исполнить все до единой, то окончание концерта зрителям пришлось бы дожидаться целую неделю. Не единожды размышлял о том, что если бы судьба не наделила его талантом грабителя, то, возможно, сейчас он блистал бы на сцене итальянских театров. Во всяком случае, когда однажды он пропел у ворот «Ла Скала» партию Мефистофеля из оперы «Фауст», то великий Тоскани всерьез звал его на прослушивание в театр.
Быть может, тогда он упустил свой шанс, возможно, сейчас разъезжал бы с гастролями по всей Европе не с отмычками в кармане, а с целым оркестром.
Нередко к игре на мандолине Винченцио прибегал в минуты полнейшей безысходности. Музыка позволяла отыскать дорогу из самых запутанных жизненных ситуаций.
Мандолина была старая, доставшаяся ему еще от прадеда, который, как гласило семейное предание, сам ее и смастерил. Достаточно было тронуть медиатором по четырем спаренным струнам, как тотчас наступало успокоение. Будто бы играешь не в тесной камере, а выступаешь в оркестровой яме «Ла Скала». Срывая голос, Винченцио затянул неаполитанскую песню, мимоходом обратив внимание на то, что смех под окнами темницы враз смолк, – вот отыскались и благодарные слушатели, а когда прозвучал последний аккорд, кто-то отчаянно закричал:
– Браво!
Винченцио отложил мандолину, решение было принято. Господину комиссару следует сказать, что «Мона Лиза» всего лишь копия, а оригинал находится у того сумасшедшего русского. Пусть разыскивают его по всему свету! Самое большее, что ему угрожает, так это три месяца тюрьмы за мошенничество, но к такому наказанию Перуджи не привыкать.
– Охрана! – закричал Винченцио.
Дверь открылась неожиданно быстро, и он увидел небольшого тщедушного человека, одетого в щеголеватый клетчатый сюртук, в сопровождении полицейского. На арестованного тот не походил. Что же он за птица такая?
– Ах, вот вы какой! – разлепил тонкие бесцветные губы в широкой улыбке незнакомец. – О вас только сейчас все и говорят. Разрешите вас сфотографировать? – вытащил он из сумки фотоаппарат.
Охранник, заслонивший проем могучим бесформенным телом, снисходительно посматривал на фотографа. Ярко вспыхнул магний, осветив камеру и ослепив удивленно застывшего Винченцио Перуджи.
– Прекрасно! Просто великолепно! Вы играете на мандолине? – продолжал верещать фотограф. – Не могли бы взять ее в руки? Кадр получится просто великолепным!
– Убирайтесь к черту! – выкрикнул Винченцио Перуджи. – Что это еще за паяц?
– Послушайте, я журналист из газеты «Флорентийская хроника», я пришел сюда, чтобы взять у вас интервью. Скажу по секрету, мне пришлось немало потрудиться, чтобы добиться встречи с вами. Вы просто недосягаемая величина и самая известная личность в Италии. Быть может, даже более популярная, чем сам король. Я готов заплатить хорошие деньги за все ваши вещи: мандолину, блузу, даже за ваши неоплаченные счета. Продайте мне их!
Схватив мандолину, Перуджи замахнулся:
– Уберите к дьяволу этого шута, если не хотите, чтобы я проломил ему голову!
– Все-таки я прошу вас подумать, – юркнул за спину охранника журналист, – я готов выплатить вам весьма приличные деньги!
– Видите, арестант не хочет вас видеть, – тягуче пробасил надсмотрщик, выпроваживая журналиста из камеры. – А ты мандолиной-то не маши, а то я найду средство тебя унять, – потряс он наручниками.
Тяжелая дверь гулко хлопнула, оставив Винченцио Перуджи в одиночестве.
– Черт знает что, – осторожно поставил он мандолину в угол. – Чуть инструмент не поломал об этого идиота.
*
Генри Марсель в сопровождении представительной делегации – четырех сотрудников музея и троих экспертов – прибыл на поезде «Эриксон» во Флоренцию ранним утром. Ступив на платформу, засыпанную легким пушистым снегом, громко пробурчал, чтобы услышал вышедший к нему навстречу Джиованни Поджи.
– Ну и погода, надо сказать. Думал, что еду на юг, а тут снега намело едва ли не по колено. У вас тут настоящая Сибирь!
Джиованни Поджи пребывал в благодушном настроении. С Генри Марселем он познакомился несколько лет назад, когда тот еще работал в департаменте искусств. Французская и итальянская стороны решали вопрос о нескольких картинах Тициана, которые Наполеон во время франко-итальянской войны вывез из Флоренции. Генри Марсель был один из немногих, кто не возражал против возвращения картин в галерею Уффици. С тех пор отношения их только упрочились и нередко они находили повод, чтобы наведаться друг к другу в гости и посидеть за бутылкой красного вина. Джиованни Поджи буквально был влюблен в своего приятеля и прощал ему даже некоторую ворчливость, чего просто не терпел у других.
– До Сибири нам, конечно, далековато, но снега действительно в этом году навалило немало. Кажется, такое впервые за последние пятьдесят лет. Может, ты хочешь позавтракать? – осторожно спросил Джиованни. – Моя супруга приготовила великолепную пиццу!
– Дружище, единственное, чего я хочу, так это забрать «Мону Лизу» и уехать в теплую Францию из твоей слякотной Флоренции.
– Ха-ха! Ты, как всегда, прямолинеен, Генри. Тебя приятно слушать. Тогда пойдем, машины уже ждут! – показал он на автомобили, стоявшие подле перрона.
– «Мерседес-Бенц»? Вы всех своих гостей так встречаете? – спросил Генри Марсель.
– Что ты! Только самых близких.
Подскочивший шофер распахнул перед гостем дверь, сверкавшую лаком.
– Прошу вас, господа, садитесь!
Высокий, гибкий, с усами, подбритыми в тоненькую ниточку, и длинными, едва ли не по самый локоть крагами, водитель напоминал кота, и Генри Марсель едва удержался от соблазна, чтобы не потрепать его по загривку.
Еще через четверть часа машина подъехала к галерее Уффици, остановившись перед главным входом. Площадь, свободная от людского потока, выглядела невероятно большой, о том, что каких-то десять часов назад здесь были тысячи людей, свидетельствовали горы мусора, заботливо собранные дворниками в огромные кучи. Кто уж действительно считался пострадавшим во время этого пира искусства, так это они, вынужденные едва ли не ежедневно убирать тонны мусора. Наверняка прошедшие дни представлялись для них сущим адом.