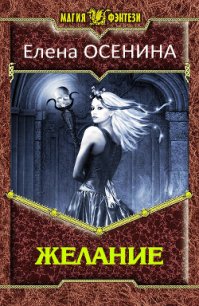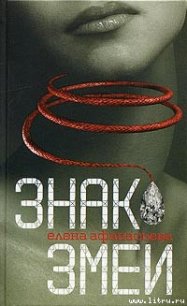Колодец в небо - Афанасьева Елена (бесплатные серии книг TXT) 📗
– На какую такую половину? – не понимает Хмыря.
– На худшую. Папа князь был. Князь Тенишев. Но женился не на дворянке. За что и расплачивался. А мы с мамочкой после за папин княжеский титул расплачивались. Теперь мамы нет, а я все расплачиваюсь и расплачиваюсь и когда расплачусь – неведомо.
От выходящего из меня холода ли, от пережитого страха ли, но у меня начинает дрожать голос, и «расплач Н сь» звучит как «распл ‹ чусь». Я и сама, того и гляди, расплачусь.
– Спирт остался, Сухарь? Спирт, грю, остался?! – рявкает Хмыря и кивает на меня головой. – Ей плесни! Да побольше, не то концы отдаст!
– Куды плеснуть? – не соображает Сухарь, но атаман уже протягивает железную кружку с процарапанной надписью «Хмырь + Хивря =…». И уважительно, как знак высочайшего благоволения предводителя к нежданной пленнице, приняв эту покореженную кружку из рук вождя, Сухарь щедро отмеряет порцию мутной жидкости из грязноватой бутыли.
– Пей!- протягивает мне кружку сам атаман. – Пей, грю! Не то сдохнешь, и порешить тебя не удастся!
Разномастная бандитская шайка хохочет.
Не чуя рук, беру кружку. В другие дни от глотка вина у меня плывет в голове, Ильза всегда смеется, что в ее декадентское время девушки были покрепче и пили побольше. Что станет со мной от кружки спирта, и думать боязно.
– Да пошамать ей чего дайте! Хлеба, сала! – командует атаман. – Хлебай, не то от холодрюги сдохнешь! Залпой!
– Залпом, – поправляю я.
– Чо-чо? – не понимает Хмыря, и острая финка Сухаря снова оказывается у моего горла. Щекочет.
– «Залпом», правильно говорить «залпом», – поправляю столь же машинально, как машинально всегда поправляю неправильное произношение и корявые словосочетания пролетарских авторов «30 дней». Вернее, «поправляла». Допоправлялась. Из университета уже вычистили, с работы вычистили, теперь и из жизни вычистят. Жизни этой такие образованные не нужны. И хорошо, что вычистят. Финка чуть скользнет из рук этого отчаявшегося, озверевшего – ставшего маленьким, загнанным зверьком, прибившимся к взрослой жестокой стае, – мальчишки, и все. И не будет никакой боли. Никаких теней на потолке чужой спальни. Только жар спирта, что «залпой» вливается в мое горло, и холод этой финки, который еще чуть, и сменится жаром вытекающей из меня жизни. И все.
Но не все. Мановением атаманской руки финка убрана от моего горла, а вместо ожога с мутным спиртом в мое горло вливается жизнь. Тепло.
– У вас что-то случилось?
Не зная, куда деть пустую кружку, верчу ее в руках и почему-то засовываю в карман пальтишка. И смотрю Хмыре прямо в глаза.
Боль на боль. Хуже не будет, потому что хуже уже не бывает. Я провалилась сюда из ада. Заколдованная, превращенная своим отчаянием и его предательством в ледяную глыбу, в насквозь промерзшую скалу, наказанная пыткой видеть, не сумевшая отвести взгляда от теней на потолке чужой спальни, не сумевшая расколдоваться, встать, убежать, уйти, все последние два часа я была в аду. Что теперь мне эта разбойничья преисподняя?! Кто может знать наверняка, что в жизни нашей провал, а что взлет, где плюс, а где минус, где пропасть, а где небо…
Пьянею, раз в дебри таких философствований меня занесло.
Атаман секунду-другую медлит с ответом и, не выдержав, отводит глаза.
– Хиврю вспомянул, – шепчет Скелет, и тут же получает под дых, дабы не лез в душу главаря.
– Чем докажешь, шо не легавая, а княжна? – переводит разговор главарь.
– Чем же это докажешь? И кровь у меня, если проверять надумаете, не голубая. И княжеской метки на лбу нет, хоть род отцовский шел не от Рюриковичей, а от Гедиминовичей…
– Эт шо за честные фраеры? Рюрикович? Гедиминович? Поляки пришлые?
– Гедиминовичами называют потомков жившего в четырнадцатом веке великого князя Литовского Гедимина.
– В четырнадцатом… – недоверчиво шепчет Сухарь. – А нонче век какой?
– Двадцатый век теперь, деревня! – Едва разогнувшийся от удара Скелет все же не может не выказать собственное превосходство над молодым да наглым сподвижником.
– А чёж она брешет, что про четырнадцатый помнит! Скажи ей, Хмыря, нехай не брешет, порешим!
– Я сам тебя порешу! Чирик – и готово! А с верой в княжонстово твое туговато выходит. Доказательств у тебя нема.
– Чем же это докажешь? Сказки о родовом прошлом вам пересказывать? Или стихи, что моим бабушкам Пушкин да Тютчев посвящали, читать?
Говорю – и понимаю, что сейчас меня спросят, а что это за авторитеты Тютчев и Пушкин. Но в этом и Сухарь грамотный!
– Пушкин, что памятником на Тверском бульваре стоит, с голубней на макухе? Как же он стихи твоим бабкам святить будет, каменный?
– Цыц! – еще раз обрывает Хмыря. – Поспешать нам некуда, можно и про бабок послухать. Бреши!
Рассказываю. Что еще делать. Рассказываю и как прапрабабушка Тенишева на царских балах танцевала, и как папа мамочку мою юную увидел и про княжество свое забыл…
– Вона дело – любов, – из закопченного угла подземелья откликается заслушавшийся Хмыря. И вдруг резко: – Все вон! Пшли вон! Сам с княжной говорить буду.
И, дождавшись, когда соратники-разбойники разбредутся по углам, вдруг с жаром, глядя мне прямо в глаза:
– И у меня любов! Такая любов, аж на душу рвет. Хивря звать. Зазноба. Третий год валандаимся, а все унутря горят. Повязали зазнобушку, замели. Сам во всем виноват! Взял девку на дело, и замели зазнобицу родную. Один кругом виноват!
– Не надо себя винить. На все своя судьба прочерчена, не изменить. У меня мама в прошлом году умерла. Молодая совсем, красивая. И умерла. И я весь год себя мучила, что из-за меня мамочка умерла, надорвалась, меня поднимая. А осенью зашла в церковь рядом с домом, свечку поставила, лбом к святому кресту прижалась и молю – или к себе возьми, мамочка, или душу мою отпусти, дай жить дальше. Не знаю, крест ли святой или место намоленное. Да только стою лбом к кресту, полумрак да запах ладана с утренней службы не выветрился, глаза закрыты. И свет мерцающий перед глазами. Может, мерцание свечи на сетчатке глаза осталось… И слышу мамочкин голос: «Девочка, живи! За себя и за меня живи! Только живи, девочка!» Может и тебе, атаман, в церковь зайти. Не к Богу – к своей душе…
Атаман молчит, не перебивает. Только финкой чертит что-то на закопченной стене, профиль чей-то… Делаю шаг в сторону, но издали прочерченное не разглядеть. Возвращаюсь ближе, поднимаю с пола лампу, подношу к стене и вижу… себя. Ту себя, что вижу в зеркале, когда ко мне приходит N.N.
– Хмырюшка! Да ты художник! Художник! Какие линии! Модильяни!
– Эт шо! У мени тута галеря цела. Все подземелие исчиркано. Поглядеть хотишь?
Хочу. Спирт, разлившийся по всему телу, снял долгую боль. И мне уже не страшно, что я в лапах у подземельных разбойников, что там, над моей головой, стоит дом, на потолке третьего этажа которого пляшут тени моего любимого и его законной Ляли. Ничего мне не страшно. Любопытно. И весело.
Атаман берет в одну руку фонарь, другой рукой крепко сжимает мою руку. Ведет. То слева, то справа показывает на черных стенах свои рисунки – остро очерченными линиями, как в наскальной живописи, на этих закопченных стенах запечатлены соратники-бандиты. И женщина.
– Хивря, – не спрашиваю, а понимаю я.
Хмырь кивает.
В этих оставленных на стенах следах его любви столько чувства, столько экспрессии, столько отчаянного желания, что захватывает дух. И мне уже кажется, что ни в какой художественной галерее, ни в каких репродукциях никакого Модильяни не видела я ничего подобного.
Линия. Живущая своей, отдельной, абсолютно отдельной страстной жизнью линия этого так не похожего на великого художника человека. Но я же знаю, что он велик. Велик, как ни один из виденных мною современных художников. Неопытен, наивен, противоречив, но велик! Атаман этот и сам не подозревает, насколько его дар выше его самого.
– Вам учиться надо! – говорю я и понимаю, что болтнула лишнего.
– Учиться, – хмыкает Хмыря. – На Соловках научат! Или ж на Беломорканале! За мной, знашь, сколь. С тринадцатого-то году. И торгово-концессионный банк в пятнадцатом годе брали, и Патриаршую ризницу в самом Кремле в восемнадцатом…