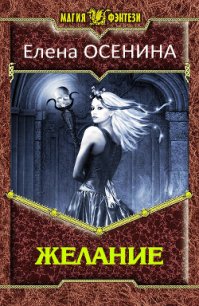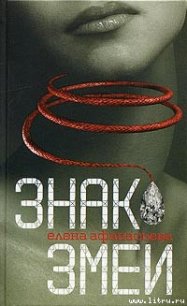Колодец в небо - Афанасьева Елена (бесплатные серии книг TXT) 📗
Пока полк формировался, сам Мамонов сражался на Бородинском поле, под Тарутином и Малоярославцем. После, когда мамоновцы догнали русскую армию в заграничном походе, под знаменами полка сражались виднейшие российские пииты Василий Андреевич Жуковский и князь Вяземский. Сам Мамонов в 1813 году был возведен в генерал-майоры. В генерал-губернаторской папке помимо частых доносов обнаружились бумаги и совершенно иного толка, оценивающие истинные достоинства Матвея Александровича. «Употреблен был во время нескольких сражениев по кавалерии с разными поручениями в самых опасных местах, которые исполнил с отличием и храбростию, как наидостойнейший офицер, заслуживший особенное замечание, чем и был мне совершенным помощником», – писалось про графа в представленном генералом Уваровым наградном списке офицеров ополчения. Но следом прилагалось и иного рода донесение.
В одном из городков герцогства Баденского мамоновцы поссорились с офицерами стоявшего неподалеку австрийского отряда. В письме к императору Мамонов выказывал неудовольствие, что русских, победителей Наполеона, в немецких землях безнаказанно унижают: «Всякому немцу предоставлено оскорблять русского солдата наиоскорбительнейшим для глаз русского образом…» Мамонов сообщал государю, что в порыве благородного негодования «вынужденным нашел себя приказать тут же схватить одного из самых бунтующих и наказать его, как наказывают виноватых солдат в Российской империи». Из чего следовало, что австрийцу пришлось отведать русских шпицрутенов, а это уже было чревато дипломатическим скандалом. Мамоновский полк был немедленно расформирован, а граф Мамонов демонстративно вышел в отставку.
Нашелся в тайной папочке и список с донесения агента Кудяки, сообщавшего в тайное отделение о высказывании Павла Андреевича Вяземского: «Таким образом патриотический подвиг Мамонова затерян. Жаль! Полк этот, по именем Мамоновского, должен бы сохраниться в нашей армии в память 1812 года и патриотизма, который одушевлял русское общество».
В папке недоставало лишь разъяснений тому, что случилось с графом со дня его выхода в отставку.
За дюжину минувших лет Матвей Александрович почти не выезжал из Дубровиц и принимать у себя никого, кроме графа Михаила Орлова, не желал. Разговоры в московских салонах на предмет Дубровицкого затворника год от года становились все более странными. Менее богатые – а быть беднее «самого Мамонова» не составляло труда – возмущались слухами, что Матвей Александрович своим крестьянами оброк понизил «аж в восемь раз».
«Кабы было у него не пятнадцать тысяч душ крепостных, а лишь две или даже пять, каждый рубль оброка считал бы. Нет, чтобы так оброками разбрасываться!..» – возмущался в салоне Волконской вечно считающий золотые в чужом кошельке граф Панин.
После пошли слухи о фортификационных укреплениях, да о пушках, привезенных в Дубровицы, да о знамени Пожарского, откупленном Мамоновым из Нижнего Новгорода.
В довершение всех пересудов стали сказывать, что собственным слугам запрещено видеть графа. В доме, мол, он завел порядок, что с утра камердинеры приносят одежду в туалетную, а слуги подают кушанья на стол без хозяина и без хозяина все убирают. И приказания все барин оставляет в записках, и дела с управляющими и приказчицами ведет в письмах.
По округе начали ходить легенды о барине-«невидимке», что не могло не явиться темой для вечных пересудов тех, кто утомился судить лишь о меняющихся списках первых московских женихов и невест. Но все ж в те годы далее пересудов дело не шло. Да, странен! Но на то и первейший богач, дабы странности себе позволять!
Первый истинный гром грянул в январе сего, 1825 года. Подколотая сверх всех доносов собственная жалоба графа Мамонова генерал-губернатору Голицыну всячески характеризовала нервную натуру Матвея Александровича.
«Вдоль бульвара, находящегося против моего московского дома, обоего пола испражняются всячески, как водится в нужных местах люди, вероятно, служители генерал-майора Шульгина 1-го…» – злился граф. И продолжал послание в непечатных выражениях. В тех же выражениях он требовал перенести полицейскую будку ближе к его дому, «дабы непотребство впредь дозволено не было», а также «высечь нагайками занимающегося извозом крестьянина княгини Голицыной Михаила Евдокимова за учиненный оным на графском дворе шум с приехавшим погребщиком».
Толстой нынешней зимой присутствовал при том, как князь Голицын читал мамоновское письмо. Читал и весь закипал от неудовольствия. Но распорядился отписать графу отчет, в коем объяснить невозможность переноса будки и внушить Мамонову – «наказание вольных людей относится к компетенции правительства».
Толстой все честь по чести отписал и как можно более деликатно изложил угрозу Дмитрия Васильевича о возможности учреждения опеки над графом.
Ответил граф Мамонов форменным вызовом генерал-губернатора на дуэль. Мало что подобное пасквильное послание не постеснялся Голицыну направить, так еще и копии с оного разослал всем друзьям и знакомым! Да в таком количестве, что вскоре о «безродности Гедиминовичей Голицыных против Рюриковичей Мамоновых» спорили уже в каждой московской гостиной, да и здешний предводитель Васильчиков всю дорогу только и делал, что этот список зачитывал.
Назревал скандал.
– Неизвестно, какие меры примет князь, но мне кажется, опеки не миновать, – не далее как третьего дня, ожидая приема у генерал-губернатора, в разговоре с Толстым сетовал Александр Яковлевич Булгаков, человек во всех делах чрезвычайно осведомленный.
– Государь дал князю Дмитрию Васильевичу волю поступать с этим делом, как он заблагорассудит, – проговорил поручик.
На что Булгаков только вздохнул:
– Нельзя не сожалеть о Мамонове. При молодости, богатстве и уме будет иметь весьма несчастный конец.
И уже следующий день показал, что предчувствия Александра Яковлевича не обманули. Генерал-губернатору поступила жалоба от одного из мамоновских людей. Обуреваемый любопытством вольнонаемный лакей спрятался за колонну в столовой, дабы понаблюдать за таинственным «графом-невидимкой». Но «был обнаруживаем графом и тяжко бит».
Жалоба эта и стала той последней каплей, переполнившей чашу терпения князя Дмитрия Васильевича. Отчего он и велел своему адъютанту вместе с подольским уездным предводителем Васильчиковым отправляться в Дубровицы и добиться от графа подписания бумаги о повиновении.
Но даже теперь, когда в заляпанное грязью окошко кареты уже были видны третьи по пути следования ворота мамоновской крепости, из-за готического контура которых прорисовывался невиданный для русской архитектурной традиции храм, поручик Толстой не мог понять главного. Поручено ли ему дело честное или же лукавство оскорбленного его начальника выше всех якобы имеющихся доказательств мамоновской вины?
Где это видано, чтобы побитый барином лакей дерзнул бежать со своими синяками прямо к генерал-губернатору? И кто бы того лакея на генерал-губернаторский порог допустил? За тумаки и шишки прислуге знатных людей под арест не сажают, тем более что до сих пор Мамонову сходило с рук и не такое. Так, может, прав Матвей Александрович, углядевший в новом слуге шпиона, засланного для слежки за ним?
Последние, третьи ворота в столь непривычной для подмосковного пейзажа крепостной стене оказались открыты. А князь Васильчиков, не умолкая и вращая головой по сторонам, рассказывал поручику о таинствах здешней архитектуры и о слухах, будто бы комнаты в дубровицком поместье испещрены каббалистическими знаками.
Показавшаяся за поворотом украшенная ажурной резьбой и непривычными для русской храмовой традиции каменными скульптурами святых белокаменная церковь Знамения построена была при воспитателе императора Петра I Борисе Алексеевиче Голицыне. При внуке его, тоже генерал-губернатореПервопрестольной Голицыне Сергее Александровиче был построен этот главный усадебный дом, ставший ныне мамоновской крепостью. Выходит, Голицыны Дубровицы строили, а нынешнему Голицыну, и тоже генерал-губернатору, довелось в бывшую родовую вотчину целый отряд для усмирения нынешнего хозяина посылать.