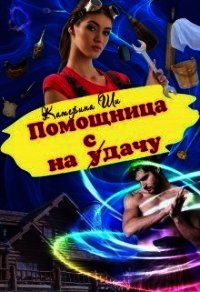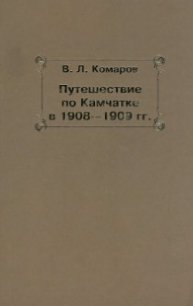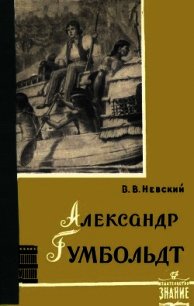Дело о старинном портрете - Врублевская Катерина (читать книги без сокращений .TXT) 📗
— Когда вы начали рисовать?
— Не помню, когда я этого не делал. Сызмальства что-то царапал углем на дощечках, кирпичах, оберточной бумаге. Белые листы были дороги — не для потех и баловства.
— Ну какое же тут баловство? — возразила я. — Это учеба.
— Так-то оно так, да отец надеялся, что помощником буду, ведь я старший в семье, а я слезно упросил отпустить меня в училище живописи. Серапион Григорьевич и сам видел, что у меня не блажь, что вся жизнь моя в рисовании, и отпустил в Москву.
— Молодец! — похвалила я отца Протасова. — Иметь такую широту взглядов — это не часто встречается.
Может быть, отец пожалел меня, а может, — есть у меня такая надежда — выгоду видел: мол, вернусь и буду ему помогать в деле. Тогда будет у него не просто мастерская, а мастерская с художником из Москвы! — Андрей Серапионович забавно поднял вверх палец, как бы показывая значимость титула. — Сейчас же по старинке работают — как двадцать лет назад стулья сколачивали, так и сейчас, никакого творчества!
— Лазарь Петрович уже рассказал вам о моей необычной прихоти? — спросила я. — Или мне повторить для вас?
— Не стоит, мне ясно. Почему ж необычная? Вполне понятная и милая прихоть, — снова улыбнулся юноша. — Хорошая мысль. Давно надоели эти нагромождения, ведь столько места занимают! Хочется все собрать и вывезти на помойку, уж простите за грубость. Сколько с отцом ни спорю, а он моих взглядов не признает. Мал еще, говорит, яйца курицу не учат, поперек батьки не лезь. Вот выучишься на художника, тогда и поговорим, а сейчас ты еще права не имеешь, на отцовские деньги ума-разума набираешься. Вся народная мудрость против меня.
— Всецело с вами согласна, Андрей Серапионович, — кивнула я. — Ничего хорошего в этих козетках да оттоманках нет. Выглядят, как замоскворецкие купчихи, такие же тяжелые и расплывшиеся. И пыль в резьбе скапливается. Не хочу резную мебель. Только вот чего мне хочется, сама не знаю. Решила вас спросить.
— А я наброски принес, — Протасов вытащил откуда-то из-за спины картонную папку и показал мне. — Вдруг вам что-нибудь понравится? А нет, так еще нарисуем, мне в радость.
Говорил он мягко, певуче, немного окая. Серые глаза смотрели на меня чуть насмешливо, но совсем не обидно, будто своими желаниями я взяла его в сообщники. Когда он протянул мне папку, я обратила внимание, что у него широкие мощные плечи, которые, однако, не делали его торс коренастым и приземистым. Косоворотка ладно обрисовывала фигуру Протасова, и мне даже пришла в голову мысль: а в училище живописи он так же одевается, или это просто дань семье мастеровых? С немалым усилием я перевела взгляд на эскизы, не ожидая, впрочем, ничего особенного. Однако от увиденного у меня побежали мурашки по коже, словно я выпила бокал ледяного шампанского, — настолько интересными оказались рисунки. Четкими уверенными штрихами на картонных листах были изображены легкие стулья, устремляющиеся вверх шкафы; округлые, плавные формы мебели заставили меня разглядывать все до мельчайших подробностей. Редкие декоративные элементы в стиле рококо и барокко не затеняли общей картины новизны, лишь придавали ей еще больше очарования. Я перебирала рисунки и не знала, на чем остановиться.
— Изумительно! — только и смогла воскликнуть я. — Что это? Никогда прежде такого не видела! Так не бывает!
— Это называется модерн — новый стиль. В Германии его называют югендстилем. Я узнал о нем совсем недавно, в училище, когда один из наших студентов вернулся из Мюнхена и привез рисунки архитекторов Беренса и фон Уде. А это, — он показал на наброски, — моя интерпретация немецких образов. Когда Лазарь Петрович предложил мне нарисовать для вас мебель, я сразу сел за работу и так увлекся, что просидел над картонами до рассвета. Работа захватила меня. Мне понравилась идея внести в немецкий стиль русский самобытный колорит. Вам нравится?
У художника даже речь изменилась. Голос стал тверже, фразы длиннее. Пропал мастеровой. О стилях в искусстве со мной разговаривал образованный московский студент. Я порадовалась этой перемене, так как сразу ощутила, что молодой человек непрост и что ему тесны рамки отцовской мастерской.
— Конечно! Мне все нравится, даже не знаю что более всего. Так бы сразу взяла и расставила: стол в центре, шкаф в тот угол, к окну, он будет хорошо смотреться от входной двери. Только… — спохватилась я, — только кто все это сделает? Было просто на бумаге, да забыли про овраги. Знаете такую пословицу?
— Не волнуйтесь, Аполлинария Лазаревна, отец возьмется за эту работу, я уже с ним беседовал. Утром я показал Серапиону Григорьевичу эскизы, и он согласился взяться за заказ, даже ему интересно стало. Вы не подумайте, он не такой ретроград, как кажется. Просто он основательный и не возьмется делать заведомо плохую вещь. У него хорошие столяры, да и я сгожусь. С детства рубанок в руках держал. Вот и вспомню, как отцу помогал. Не повредит. — Протасов улыбнулся. — Руки чешутся самому сделать то, что придумал.
— Неужели и вы будете тоже работать? — поразилась я. — Вы же художник, вам руки беречь нужно. Может, не стоит? Будете наблюдать, показывать, что и как, а делают пусть другие.
— Не страшно, мы привычные, — засмеялся он, и я вновь поразилась, как освещает его улыбка. Передо мной снова стоял мастеровой, рубаха-парень.
Мы сговорились на том, что пока я закажу гарнитур для малой гостиной, включающий стол, полдюжины стульев, небольшой диван, два кресла, шкаф и комод, а дальше видно будет. И так работы для всей мастерской наберется не менее чем на два месяца, и это если ничего переделывать не придется. А в том, что придется переделывать, я не сомневалась: капризная из меня заказчица, люблю, чтобы все было на самом высшем уровне.
После визита Протасова меня охватила бурная жажда деятельности. Хотелось все перевернуть вверх дном. Я вдруг заметила, какой спертый воздух в гостиной. Подойдя к окну, я распахнула створки, и прохладный ветер ворвался в комнаты.
Я послала Дуняшу за двумя поденщицами, постоянно работавшими у меня по большим стиркам, и, когда они явились, стала сыпать указаниями. Поденщицы сняли и замочили занавеси, протерли пыль, залезая в самые далекие уголки под потолком, вымыли стекла и полы, и к концу дня я отпустила их, строго наказав назавтра прийти вновь и продолжить работу.
В тот вечер я вновь спала без кошмаров, мучивших меня после возвращения из Москвы. Мне снилась улыбка Протасова.
Работа над эскизами мне нравилась. Я объясняла Протасову, как именно должна выглядеть малая гостиная, и он рисовал быстрыми, размашистыми движениями. Когда ему окончательно становилась понятна моя точка зрения, он переводил эскизы в чертежи и передавал отцу. Два столяра в мастерской работали только над моим заказом, поэтому дело спорилось. Андрей Серапионович навещал меня, принося с собой то ножку стула, то деталь украшения на дверцу комода, а однажды отвел меня в Мещанскую слободу, чтобы показать, как из простого дерева рождается произведение искусства. Я была совершенно счастлива, вдыхая нежный аромат березовых и липовых стружек.
Как-то я встретила в торговом ряду Елизавету Павловну, известную городскую сплетницу.
— Душечка Аполлинария Лазаревна, вы чудесно выглядите! — пропела она, окидывая меня цепким взглядом. — Что же вы пропустили мой прошлый четверг? Лазарь Петрович обещал пренепременно вас привести! Сказал, что вы прихворнули. Как здоровье?
— Спасибо, Елизавета Павловна, со мной все в порядке.
— Чем вы болели? Мигрень? Я недавно получила из заграницы чудесные соли! Не хотите ли?
Мне подумалось, что мадам Бурчина злоупотребляла эпитетами «чудесный, прелестный, трогательный»; это была манера общения с членами «ее круга», куда она всеми силами старалась затащить меня. Я удивляюсь, как мог мой отец, выдержанный человек, комильфо, посещать ее сборища, где, помимо пасьянсов или других «степенных игр», не было более приятного времяпрепровождения, чем сплетничать о знакомых. На мои вопросы Лазарь Петрович отвечал, что сведения, добытые им в салоне Елизаветы Павловны, имеют несомненную ценность для его деятельности стряпчего и присяжного поверенного.