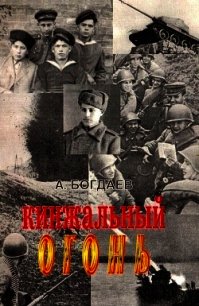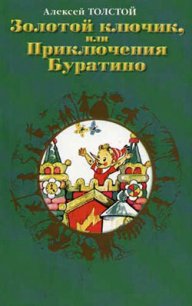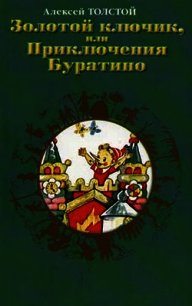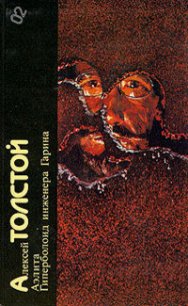Презренный кат (СИ) - Филиппов Алексей Николаевич (библиотека книг TXT) 📗
Когда Анюта вывела Чернышева к малоприметной землянке, он уже ничего не соображал от усталости и ничего не видел от цветных кругов в глазах. Безропотно упал Еремей на подстилку из сухого мха и шумно задышал там, будто больной пес. В голове его что-то больно стучало, грудь разрывал тяжелый кашель, лицо горело, и какая-то шершавая резь рвала глаза.
— Еремушка, — внезапно услышал кат сквозь шум в голове ласковый девичий голос, — любый ты мой. Спаситель мой ненаглядный. На Еремушка, выпей отвару целебного. Выпей.
Чья-то прохладная рука легла на пылающий лоб Еремея. Он попытался приоткрыть глаза и сквозь раздирающую боль в бледно красном тумане увидел Анюту. Она улыбалась ему своими прекрасными глазами, и гладила по голове, словно заботливая мать заболевшего ребенка.
— Анюта, — прошептал запекшимися губами Чернышев. — Анюта, где я? Где я Анюта? А Марфа где? Куда она детишек дела? Ты пригрози ей. Скажи, что вот приду я и всё спрошу. Пусть она их не смеет забижать. Не уходи от меня, Анюта. Не уходи. Вся моря синь в твоих глазах и алый яхонт на губах. Не уходи.
— Молчи милый, молчи, — зашептала девушка и прикрыла кату мягкой ладошкой воспаленные губы. — Молчи. Я с тобой. Никуда я больше не уйду. Мы теперь с тобой всегда вместе будем.
Еремей хотел еще, что-то спросить, но тут из-за Анютиной спины явилось уродливое лицо древней старухи, и тотчас же кат ощутил на своих губах не нежную девичью ладонь, а холод глиняного кувшина.
— Пей милый, пей, — прошамкала старуха редкозубым ртом и почти насильно влила в рот Чернышева теплую жидкость. — Пей родимый, полегчает тебя. Ты же огнем горишь весь. Пей.
Питьё оказалось приятным на вкус, и, наверное, потому кат сразу же стал его жадно глотать. С каждым глотком ему становилось всё спокойнее и спокойнее. Скоро ему уже ни о чем не хотелось думать, а хотелось только спокойно лететь в голубую неведомую даль.
— Хорошо-то как, — прошептал Еремей, и всё закружилось перед его взором. — Вот благодать-то.
Пропала куда-то землянка со страшной старухой, пропала противная хлябь ранней весны, а вместо них распластался перед взором ката цветущий луг. И захотелось бежать по высокой траве, среди благоухания луговых цветов, отрывая от дела трудолюбивых пчел во множестве вьющихся над цветастым ковром. До изнеможения хотелось бежать куда-то, а потом упасть в мягкую мураву, повернуться на спину и следить за веселой суетой порхающего в голубом небе жаворонка. Так и сделал Чернышев: сперва побежал, потом упал, да вот только с жаворонком не очень получилось, почернело вдруг небо, и глянуло сверху на ката огромное старухино лицо.
— На-ка выпей ещё отвару касатик, — шептали лиловые губы, и в рот Еремея полилась тягучая ароматная влага. — Пей, пей, этот настой многих на ноги поставил и тебе поможет обязательно.
И опять все закружилось перед взором Еремея, опять полетел он куда-то, но очутился на этот раз не на цветущем лугу, а в своей избе. Прямо за стол попал. Детишки рядом с ним сидят, улыбаются. Вот они — Ефремка с Матвейкой, совсем рядышком, только руку протянуть осталось. Да вот не тут-то оно и было, хотя уж вроде куда ближе? Потянулся Чернышев к мальчишкам, а уж их и нет вроде. Здоровый черный кот на их месте сидит. Сидит и лапой морду свою трет, а лапа у него не кошачья, человеческая. Белая такая рука, холеная, с перстнями самоцветными. Кат замахнулся на умывающегося кота глиняной плошкой, но кот увернулся, отбежал в угол и обратился там, ни кем иным, как генералом Ушаковым Андреем Ивановичем. Погрозил строгий генерал Еремею пальцем и молвил с укоризной.
— Раньше-то у тебя Чернышев рука потверже была. Сгубил ты себя. Для чего сгубил? Не пойму.
— Так получилось, — грустно ответил генералу кат. — На роду мне видно было так написано.
— Вот это ты врешь про судьбу! — внезапно взъярился Ушаков. — Ты службу государеву на девку променял. И ладно бы девка путная была, а то ведь блудная она. Неужели ты сам еще этого не понял. Опомнись Чернышев. Христом богом тебя прошу, опомнись, а то ведь хуже будет. Гони эту тварь от себя!
— Врешь! — благим матом заорал на генерала Еремей и хотел ударить кулаком по бледному лицу. — Не будет мне уже хуже! И про Анюту ты всё врешь, не такая она, как все! Вы её все в моих глазах опорочить хотите! И тать этот Яков и ты Андрей Иванович! Все!
Только вместо генеральского лица провалился куда-то кулак, а вслед за ним и сам Ерема. Темно стало, душно. Вроде, как трясина его засасывает. Вот уж и грязь болотная в рот полезла, и главное не защитишься от неё никак. Руки-то уж трясина противная сковала, только плеваться осталось. Скоро и плеваться сил не осталось, и решился Чернышев утонуть.
— Все равно человек я пропащий, — крикнул он на всё болото и перестал плеваться. — Чего мне теперь за жизнь-то цепляться! Жалко вот только, что Анюту я больше никогда не увижу. И мальчишкам моим без меня ведь никто не поможет. А, будь, что будет!
Чавкнула злая трясина, втянула в себя страдальца и толкнула в какую-то трубу. Сдавила там ката неведомая сила, так сдавила, что кости его, захрустели жалобно, и выбросила опять стремительно, будто снаряд из мортиры. Упал Еремей куда-то носом, больно так упал, вновь думая, что всё конец его грешной жизни наступил, но снова обошлось. Сидел теперь Еремей на цветущей земляничной поляне, а из-за малиновых кустов смотрела на него Марфа. Вокруг неё, на зеленых листьях сверкали самоцветами крупные капли росы, и такой красивой была жена в этом сверкании, словно новая икона среди праздничных церковных свечей. Чернышев потянулся к Марфе, хотел прощения у неё попросить, да только язык его перестал слушаться, и Марфа от рук отпрянула. Отпрянула и бежать. Еремей за ней. Догнал. Схватил за родные плечи, повернул к себе, да и давай жарко целовать её в уста алые.
— Что же ты творишь охальник, — вдруг не своим скрипучим голосом стала ругаться на него жена. — Отошел что ли, раз на баб бросаться стал? Ой, охальник, ой стервец! Да пусти же.
Потемнело всё вокруг от этого голоса, сморщилось румяное лицо Марфы, и очнулся от тяжелого сна кат.
Лежал он в темной землянке, а перед ним сидела старуха с серым лицом и укоризненно качала головой.
— Я уж думала, что не ожить тебе, а ты вон на меня набрасываться стал, целоваться лезешь, — пробормотала старуха, и надрывно кашляя, вышла на улицу. — Да какая я теперь баба, милок? Отошел мой бабий век. Давно уж отошел. Ох-ох-ох.
Чернышев еще немного полежал, оглядывая сумрачные, покрытые зеленым мхом стены, темный потолок со следами черной копоти и ползком последовал за хозяйкой в чуть приоткрытую дверь.
На улице было по-летнему тепло. Еремей удивленно покрутил головой, отыскивая, еще недавно лежащие повсюду сугробы да покрытые тонким ледком лужи, и крикнул, раздувающей костер старухе.
— Так сколько же я у тебя пролежал, старая?
Старуха выпрямилась, откинула тыльной стороной ладони прядь слежавшихся сивых волос и изобразила на лице совершенное недоумение. Дескать, хочешь, пытай меня милок, хочешь, нет, а вот, сколько времени ты здесь пролежал, я тебе сказать не могу. И не потому, что мне трудно ответить тебе, а просто я не знаю этого. Давно ли, недавно ли тебя привели — для меня все равно, я теперь в счет времени совсем не верю, а потому и не веду его. Умерло для меня время. Мне теперь, что вчера, что сегодня, всё без разницы. Может, давно ты лежишь, а может, нет?
— Вроде снег был, когда мы пришли? — решил немного подтолкнуть к ответу хозяйку Чернышев.
— Весна нынче дружная была, с дождем, — утвердительно кивнула старуха и опять наклонилась к огню. — Быстро снег согнало, а теперь вот тепло стало. Дружная весна нынче. Ты посиди на солнышке, а то залежался, поди? Посиди касатик, солнышко оно всегда людям силу дает. Посиди.
Два дня кряду еле-еле выползал Еремей из землянки на солнышко, а потом стало полегче ему. Есть захотелось, да что там есть, ему уж баню подавай. Ожил человек. Старуха с ним особо не разговаривала, кормить, кормила и воды в соседней землянке для ката нагрела. А как помылся он, так уж и вовсе ему покоя не стало. Мечется Чернышев на полянке, бродит по опушке и будто ищет чего-то.