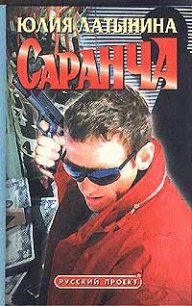Охота на изюбря - Латынина Юлия Леонидовна (список книг .TXT) 📗
– Возместить? Ты салон дочиста выставил, четыре «Мерса» взял, два «Чероки», один «Мерс», между прочим, мой был – мне его спецом из Кельна гнали…
– Погоди-погоди! – даже подскочил Камаз. – Какие четыре «Мерса»? Я три «Мерса» взял, два черных, один вишневый, а джипов я ваще не брал, они в автовозку по габаритам не лезли…
Моцарт аж вылупил глаза.
– Ты сколько, говоришь, тачек увел?
– Восемь тачек. У меня же машина была, на нее больше не влазит.
Ващенко уверял, что у него угнали одиннадцать машин.
– За базар ответишь?
– Отвечу.
Моцарт смерил Дениса с Камазом внимательным – очень внимательным – взглядом, поднялся и вышел из кабинета.
Тачки люди Моцарта отыскали на следующий же день: два джипа стояли в просторном гараже на летней даче Ващенко, а угольно-черный «Мерс», предназначавшийся в подарок «крыше», обнаружился под холстом на стоянке, где всегда парковался приятель Ващенко. К вечеру бизнесмена привезли на дачу к Моцарту. Там его завели в подвал, приторочили наручниками к водопроводной трубе и избили до состояния промокашки.
– Ты меня дебилом перед ахтарскими выставил! – орал Моцарт, пиная ногами рыхлое, податливое тело коммерсанта.
Ващенко не убили. Но в тот же вечер бизнесмену пришлось отписать бандитам принадлежащий ему салон, а в качестве компенсации за моральный ущерб Моцарт забрал себе и летнюю дачку, и новую квартиру Ващенко. За несколько часов преуспевающий барыга превратился в нищего.
Только спустя месяц Моцарт понял по некоторым несомненным деталям, что Черяга с Камазом развели его втемную. И что у Ващенко украли все-таки одиннадцать машин, а не восемь. Восемь вывезли автовозкой и продали в Новосибирске, а остальные три расставили по ващенковским точкам. Но переигрывать он, разумеется, ничего не стал – не отдавать же барыге салон обратно?
Как ни странно, этого оказалось мало. Умные люди, конечно, услышали, что преуспевающий сунженский бизнесмен Ващенко попытался поставить на бабки структуру, близкую к АМК, и через неделю после того, как он это сделал, Ващенко лежал в больнице, а его автосалон больше ему не принадлежал. Однако помимо умных людей в области было очень много дураков, а глупость – это штука опасней, чем граната Ф-1.
Не прошло и трех дней после истории с Ващенко, как неизвестно откуда взявшиеся отморозки попытались наехать на компьютерный магазинчик, тридцать процентов акций которого принадлежало одной из дочек АМК. Пробивка была жесткой, со стволами, с криками «ща я тебя урою!», глава отморозков, некто Курт, напоследок сбил наземь владельца магазинчика и, помочившись на его окровавленное лицо, предложил приготовить к завтрему три штуки баксов. «Комбинату не до тебя, у них забот выше крыши», – объяснил он.
Бандюков расстреляли на следующий день, прямо перед дверьми магазинчика. Три «калаша», высунувшиеся из двух припаркованных у обочины джипов, превратили Курта с подручными в кровавую кашу, которую долго потом отскребали от тротуара. Промышленная полиция, не моргнув глазом, списала происшествие как очередной висяк.
А еще через два дня, когда на комбинат пожаловала налоговая проверка, Черяга очень радушно распорядился выделить мытарям кабинет и предоставить им всю документацию, а потом доверительно сказал, склоняясь к самому уху замначальника налоговой инспекции:
– Только, знаете ли, жадность до добра никого не доводит, как Курта…
Извольский, в Москве, выслушал и про Курта, и про налоговиков и остался недоволен.
– Ты меня в уголовника превращаешь, – пробормотал директор. – Это плохо. Если человек показывает силу, значит, есть повод в ней сомневаться.
Но так или иначе, налоговая проверка почла за благо ничего на комбинате не найти.
Удивительным образом обнаружились у комбината и союзники, и самым неожиданным и полезным из них оказался Сенчяков – тот самый директор вертолетного завода, который добровольно стал вассалом Извольского. Услышав, что АМК, а стало быть, и его вертолетный завод, отходят к московскому банку, Сенчяков встал на дыбки, а разгневанный железобетонный коммунист – это та еще сила, доложу я вам.
Сенчяков принялся собирать митинги, на которых клеймил сионистский московский режим, вывозил рабочих в автобусах в областной центр и в конце концов принялся за организацию похода ахтарских металлургов в Сунжу. Поход должен был продолжаться две недели и завершиться миллионным митингом протеста на площади перед областной администрацией.
Область была бедная, угольная, электорат в ней был преимущественно протестный, и усилия Сенчякова быстро разожгли из искры пожар четвертой категории сложности. В скором времени о том, что прихвостни Международного валютного фонда по заданию западных конкурентов намерены разорить самое крупное в области предприятие, знали в каждом рабочем поселке и в каждой шахте. У Черяги волосы дыбом вставали, когда он читал статьи, напечатанные в диких марксистских листках, в изобилии рассовываемых по почтовым ящикам. Там не хватало только обвинений в том, что в банке «Ивеко» служат по пятницам «черную мессу», а на работу туда нельзя поступить иначе, как растоптав ногами крест и поцеловав председателя правления банка в срамное место. Черяга на месте «Ивеко» немедленно подал бы в суд на автора статьи, редактора и корректора, но банк не снисходил до таких мелочей. И напрасно. Листки пользовались бешеной популярностью, а содержание их совершенно бесплатно пересказывалось пенсионерами в очередях, собесах и за бутылкой водки.
Сам Извольский, который всегда считался типичным «новым русским» и на коммуниста глядел примерно как на дохлую крысу, невзначай обнаруженную в ящике стола, никогда бы не смог организовать такой эффективной кампании в защиту завода. Максимум, что бы он мог – это напечатать в крупных газетах несколько статей с туманными обвинениями в адрес «Ивеко», – обвинениями, которые были бы совершенно непонятны широкой публике и за которые бы «Ивеко» как раз потащил бы журналиста в суд.
Все это делалось, как всегда у Сенчякова, грубо, открыто – например, строчка на печатание марксистских листков была на голубом глазу заложена им в бюджет вертолетного завода! – но грубая эффективность народного гнева служила ему надежной защитой. Налоговую проверку, которая несомненно обнаружила бы марксистскую строчку, разъяренные рабочие просто не пустили в заводоуправление.
Вячеславу Извольскому было плохо в Москве.
Вот уже несколько лет он не отделял себя от комбината – огромного, дыщащего жаром и копотью чудовища, раскинувшегося на доброй сотне гектаров посреди сибирской равнины, – с бесконечными лентами прокатных станов, с бенгальскими огнями углерода, сгорающего над льющимся в ковши чугуном, с тяжелыми толкачами, снующими, подобно медлительному гигантскому челноку, вдоль узких бойниц коксовых батарей.
Ему было бы легче болеть в Ахтарске – но о перелете нечего было и думать, и генеральному директору оставалось тосковать – в то самое время, когда комбинат трясло и лихорадило.
Финансовые неурядицы не проходят бесследно для собственно производства: интриги банка влекли за собой беспокойство партнеров, беспокойство партнеров заставляло их диктовать комбинату невыгодные финансовые условия, невыгодные условия кончались переменой марок углей и поставщиков руды, и от этого возникали десятки технологических проблем, которые надо было решать на месте, стоя обеими ногами на утоптанном, усыпанным углем снегу возле коксовой батареи, а вовсе не по телефону из московской больницы.
В середине декабря, чтобы проучить зарвавшихся поставщиков, Извольский приказал перейти на руду с Черемшинского ГОКа, перерыв в поставках составил почти неделю, и всю неделю домны и аглофабрика были вынуждены довольствоваться сухим пайком старых запасов. Извольский распорядился уменьшить загрузку домен, на пятой домне, самой крупной в Азии, выдававшей до восьми тысяч тонн чугуна в сутки, снизили форсировку.
Пятая домна, более известная на комбинате как «Ивановна», была любимицей Извольского и работала как часы, – нагрузка на ней не уменьшалась даже во время летних шахтерских забастовок. Но из-за снижения форсировки и перемены в составе сырья с домной вдруг что-то приключилось, выход металла резко уменьшился, все руководство комбината неделю не вылезало от пятой домны, а Извольский, в Москве, бессильно бранился по телефону, чувствовал, что только отрывает людей от дела, – и от этого бранился еще больше.