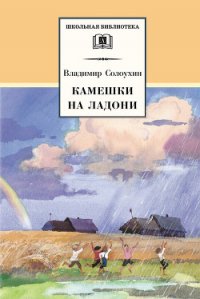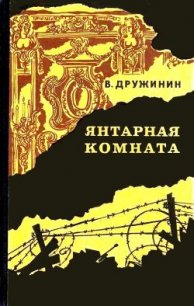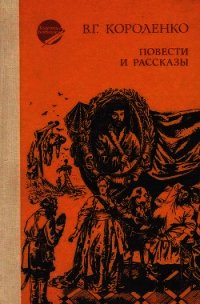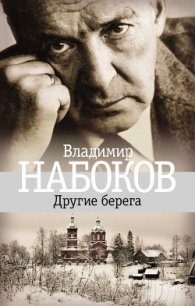Голос с дальнего берега Рассказы и литературные портреты - Клевцов Владимир Васильевич (книги бесплатно без регистрации полные txt) 📗
Послушать Евгения Павловича собирались все, кто был в писательской организации, все, кто заходил по делам, да так и оставался. Наконец, не выдержав долгого гудения нечаевского голоса за стеной своего кабинета, появлялся ответственный секретарь Александр Бологов, замирал в дверях, прислонясь к косяку, смотрел на всех с рассеянной, далекой улыбкой, точно думая о чем-то своем.
— На второй день нашего «сидения» проплыл мимо буксир. Кто был в силе, бросились к нему вплавь. На буксире, как увидели плывущую в ним ораву бойцов, дали деру, чтобы не потопили. Ночью прибило к нам — или случайно, или кто послал во спасание — буксир с баржой. На нее мы и погрузились. Буксир — слабосильный кораблишко — пыхтел-пыхтел и не мог сдвинуть баржу с места. Но потом все-таки сдернул посудину, и уплыли мы от верной гибели.
Засиживались в такие вечера подолгу, первой спохватывалась Анна Васильевна, собирались и остальные. Евгений Павлович, все еще переживая рассказанное, последним закрывал дверь, склонив голову в барашковой, мехом наружу, шапке, сопя и тыча ключом в замочную скважину.
Войну Нечаев закончил в Берлине. На документальных кадрах военной кинохроники иногда можно увидеть такую картину: стоит посреди захламленной берлинской площади или улицы гаубичная пушка, вокруг которой суетятся артиллеристы, даже не суетятся, а ловко, быстро и умело, как бы с шутками-прибаутками, выполняют привычную солдатскую работу, и вдруг резко, едва не подпрыгнув, пушка стреляет по неведомой цели. Всегда при этом думалось: а не из дивизиона ли майора Нечаева стреляющая гаубица? Вполне возможно. И однажды спросил Евгения Павловича:
— Куда вы там могли стрелять в центре города? Кругом дома!
— По немцам вдоль улиц, куда же еще… И по домам били, если там объявлялся снайпер или «фаусник». Эти «фаусники» жгли наши танки почем зря. Целились с чердаков и окон по башенным люкам, где броня слабее… Немки, говорят, чтобы спасти себя и квартиры, бегали по чердакам, вязали снайперов и сбрасывали вниз.
* * *
Какие имена блистали тогда в Пскове, какие люди собирались в маленьких комнатах писательской организации: Гейченко, Васильев, Куранов, и у каждого входящего сюда мерк свет в глазах от вида лауреатов и Героев Труда, стоявших, каждый поодиночке, в стороне, но все равно как бы в центре. А между ними ходили, разговаривали, улыбались и здоровались далеко-далеко не пожилые Александр Бологов и стриженный в скобку, язвительный шутник Валентин Курбатов. Молодые ловили каждое их слово, и какое им сейчас было дело до сидящего у окна бородатого деда, которого они совсем недавно слушали с таким интересом!
Евгений Павлович, думается, не обижался ни на молодежь, ни на более именитых писателей и вряд ли бывал подавлен кажущейся своей незначительностью. Он знал себе цену.
А знали ли мы ему цену, не только литературную, но и человеческую? Много ли из нас, молодых, догадывалось, что в его душе, возможно, бушуют страсти? Много ли знало, что он остроумен и ироничен, причем очень тонко ироничен? Не знали, не догадывались и догадываться не хотели, потому что все это не вязалось с нашим представлением о суровом и нелюдимом дедушке Нечае.
Однажды он раскрылся. Рассказывая о войне, вспомнил о приезде к ним на фронт из Москвы с инспекторской проверкой Мехлиса, человека вздорного и крикливого. Как высокомерно, трусливо и бездарно повел тот себя, раздавая налево и направо «стратегические указания», от которых зависели судьбы людей, и как потом, раненный при обстреле в руку, сбежал в госпиталь, бросив неизвестно где портфель с документами. И когда Нечаев рассказывал об этом, давая «герою» едкие, уничижительные характеристики, уже открыто проявлялась в нем страстность и ирония была другая — язвительная, беспощадная.
Как-то он сказал писателю Куранову:
— Вот ты, Юра, пишешь образами, метафорами, сравнениями. Оцени, какой я образ нашел: весна, оттепель, с крыши избы пластом сползает снег, завис над землей. Это изба от жары во сне сбросила с себя одеяло. Хорошо?
— Хорошо.
— Смотри не стибри. Я его потом где-нибудь использую.
Куранов посмеялся.
Не знаю, использовал ли свой образ Нечаев, но вот факт: с возрастом, к старости, он стал писать лучше. Человеку уже за семьдесят лет, а он молодец молодцом.
В те годы он работал над романом-воспоминанием «Люди нашего города». Понимая, что, возможно, пишет лучшую книгу, стал замкнутее. Приносил отрывки книги к нам в редакцию в самый разгар газетной суеты, и другой бы опешил от вида бегающих туда и сюда людей, а он твердо шел по коридору, как ледокол мимо льдин.
— Посмотрите, может, чего напечатаете. Постарайтесь.
Мы удивлялись, было неловко: никогда ничего не приносил, никогда мы его не печатали, а тут чуть ли не просит.
Отрывки печатали, на редакционных летучках они отмечались в числе лучших, о чем я всякий раз ему сообщал. Он молчал, будто не слыша, но по слабой, едва мелькнувшей улыбке чувствовалось, что он доволен.
Нечаев прожил долгую жизнь — восемьдесят четыре года. В последнее время стали отказывать ноги. Евгений Павлович крепился, появлялся даже в Союзе писателей. Его привозили на улицу Ленина, а потом мы спускались и помогали ему подняться на третий этаж.
Так же, придерживая с двух сторон, помогали ему на похоронах писателя Виноградова. Он смущенно кряхтел, видимо, стесняясь своей немощи. А затем, оглядев собравшихся впереди людей, холм желтой земли на краю вырытой могилы, отчего-то растерялся, дальше не пошел, встал в стороне. На Нечаева оборачивались, с острой жалостью замечая беспомощное выражение лица, всю его одинокую фигуру в толстом ватном пальто, делавшем его почти квадратным, и, когда он, выпив поминальную стопку, не дожидаясь окончания, направился к выходу, все поняли, о чем в эти минуты думал Евгений Павлович.
В последний год совсем не выходил из дома. Сидел на кровати, опустив ноги, в рубашке, похудевший, слабый, только знаменитая нечаевская борода казалась еще больше. Но и в таком виде напоминал состарившегося, но командира, который по-прежнему воюет, только вместо гаубиц теперь были книги. Они лежали вокруг на стульях, на столе, на подоконнике, даже на кровати, и, разговаривая, он брал в руки то одну книгу, то другую. И снова вспоминал о войне, об училище, — об училище даже чаще, рассказывая, как после войны заезжал в Ленинград к любимому преподавателю, в послужном списке которого, помимо генеральского звания в дореволюционной России, была еще генеральская должность командующего артиллерией армии Колчака.
— Очень он обрадовался, что я жив, обнял, прослезился, совсем маленький, сухой старичок, как я сейчас. Потом засмеялся и показал на свои погоны: «Мне недавно звание присвоили. Теперь я снова генерал — в третий раз…». Умные головы не тронули после революции таких отцов-командиров, понимали, что одними комиссарами в войне не победить, нужны профессионалы, а где их было взять, кроме как царских.
Писатели приходили к нему часто. Критик Валентин Курбатов пишет, что на книжном шкафу Евгения Павловича висел его парадный китель и что они беседовали с ним, с кителем, когда были одни.
При мне он уже висел на двери спальни, тяжелый от медалей, увенчанный пятью боевыми орденами, в числе которых был и один «командирский» — орден Александра Невского, которым награждали в исключительных случаях генералов и старших офицеров «за умелое командование войсками». Помню, меня удивило место для кителя — напротив кровати, пока не догадался, что так, наверное, Нечаеву удобнее с ним разговаривать, словно бы с самим собой, молодым, только что вернувшимся с войны и стоящим в дверях.
О чем они беседовали долгими ночами, когда затихала за окном беспокойная Коммунальная улица и время, казалось, тоже останавливалось? О горьком, трагическом, пережитом, ушедшем безвозвратно? Но были, наверное, и радостные воспоминания.
Теперь остается только жалеть, что почти ничего из его рассказов не записано. Записи вел Валентин Курбатов, и они наиболее точны, потому что заносились на бумагу Курбатовым сразу после прихода домой. Немного записывал и автор этих строк, но после обработки они не передают непосредственности нечаевской речи. Надо было использовать магнитофон, и думалось об этом, но откладывалось на потом.