Юмористические рассказы - Аверченко Аркадий Тимофеевич (книги онлайн полностью бесплатно .txt) 📗
Поймал старичок таракана, лапки оборвал, отпустил – жалостливый был, гадюка.
– Забота не твоя. Пошли ему перед самой комиссией утречком вторую порцию, а там все, как на салазках, покатится.
И колбаску ему сует дополнительную. Поскреб Еремеев в затылке, один глаз злой, другой – добрый.
– А может, не давать? Вишь, его как с нее разворачивает…
– Эк ты вякало! На море, на окияне стоит дурак на кургане – стоять не стоится, а сойти боится… Передумкой сделанного не воротишь. Письмо-то ты от папаши вчера получил? Ты колбасу письмом и осади. Ах да ох – на том речки не переехать. На половине, брат, одне старые бабы дело застопоривают.
Подивился Еремеев: откуда он, змей, про письмо дознался. Вздохнул, колбаску за обшлаг – и на улицу.
А перед самой комиссией принес фершал фельдфебелю пакетец – из учебной команды гостинец, мол, прислан. Схряпал Игнатыч колбасу мало что не с кожей, госпитальное довольствие известно какое. За столом старший доктор сидит, да лекарь помоложе, да адъютант батальонный, да штабс-капитан Бородулин.
Поиграл доктор перстами, глянул в окно.
– А ну-кась, Игнатыч. Человек ты трезвый, вумственный. Погляди-ка в палисадник. Какой это куст перед окном растет?
– Черная смородина, ваше скородие. Вишь, на ней, почитай, все почки общипаны, как не узнать. Вы же завсегда по весне черносмородинную водку четвертями настаиваете.
Позеленел старший доктор. Комиссия ухмыляется, а батальонный адъютант свой вопрос задает:
– Два да пять сколько, к примеру, будет?
Вопрос, можно сказать, самый безопасный.
– Ничего не будет, ваше благородие.
– Как так ничего?
– А очень просто. Потому как вы в приданое две брички да пять коней получили – ничего у вашего благородия и не осталось. Все промеж пальцев спустили.
Нахмурился адъютант:
– Ну и стерва ты, Игнатыч, даром что больной!
Тут, само собой, младший лекарь вступился:
– Испытаемых по закону ругать не дозволяется, – Скажите, фельдфебель, сколько у меня на ногах пальцев?
– У настоящих господ десять, а у вашего благородия одиннадцать. Через банщиков всем известно – правая-то нога у вас шестипалая. Потому-то вам дочка протопоповская тыкву и поднесла, даром что рябая…
Сгорел прямо лекарь: правда глаз колет.
А уж штабс-капитан и вопросов никаких не задает: видит – опять лунный удар в фельдфебеле разыгрался, лучше уж его и не трогать.
То да се, порешили коротко. Наказанию не подвергать, потому человек не в себе, по нечетным дням будто белены объевшись. К военной службе не годен – сапоги под мышку, маршируй хоть до Питера.
Вертается на короткий час фельдфебель в учебную команду сундучок свой сложить-собрать. Солдаты по углам хоронятся, бубнят. Неловко и им: был начальник, кот и тот от его под койку удирал, а теперь вроде заштатной крысы, которой на голову керосином капнули.
Прибирает Игнатыч за перегородкой свое приданое, пинжачок вольный в гостиных рядах купил, глаза б не глядели, а тут купеческий сын Еремеев вкатывается.
По-старому каблучки вместе:
– Здравия желаю, господин фельдфебель!
– Тебя-то, помадная банка на цыпочках, за коим хреном сюда принесло?
Ничего, проглотил Еремеев, не подавился. Перешел на другую линию, повольнее:
– Да вы, Порфирий Игнатыч, занапрасно серчаете. Очинно об вас сожалеем, такого начальника, можно сказать, и днем в погребе не найдешь… В гвардию б вас, и то б не осрамили…
– Лиса, лиса. Мало я тебя еще причесывал.
– Действительно, маловато-с. Родную мамашу заменяли. Должон я, следовательно, и вас обдумать. Папаша вот письмо прислал. Старший наш приказчик помер, угрызение грыжи с ним приключилось, царство небесное. Человек был еж, младшим холуям не потакал, первая рука после родителя. Беспокоится папаша, кем бы заменить. Мово совету спрашивает. Человек вы еще жилистый, с перцем. Куда пойдете? На гарнизонное кладбище бурьян на могилах полоть? Не желаете ли вы в Волхов на вакансию заступить старшим? Жалованье правильное, харч с наваром, власть во какая… Не то что лягушкой, кузнечиком прыгать заставите – не откажутся… Папаша одряхлел, после службы я все дело в свои руки принимаю. Как вы об этом полагаете?
Скочил фельдфебель на резвые ноги, сообразил. А купеческий сын сел – аж сундучок под им хрястнул… Солнце заходит, месяц всходит.
– Покорнейше благодарим, господин Еремеев. Я что ж, я послужу… Уж будьте благонадежны-с. На правом плечике мундирчик у вас замарамши, дозвольте почистить…
Еремеев, само собой, дозволяет.
– Почисть, почисть. Ты, Игнатыч, смотри, дома про меня не ври. Насчет наказаньев, как ты меня под ружье к помойной яме ставил и прочее такое… Невеста там у меня, неудобно.
Фельдфебель аж ногами застучал:
– Да помилуйте, Петр Данилыч, – отчество даже, хлюст, вспомнил. – Да что вы-с! Вы ж в команде первейший солдат были, как такого можно наказывать. Да вам бы, ежели на офицерскую линию выйти, и цены не было б. Только что ж вам при капитале за такими пустяками гоняться…
– То-то!
Встал это Еремеев, полтора пальца фельдфебелю сунул и пошел к своей койке переобуваться: взамен портянок носки напяливать. Хочь и не видно, а все ж деликатность и внутри оказывает…
Кряхтит, ногу, как клешню, выше головы задрал, сам про свое думает: правильно это волшебный старичок насчёт письма присоветовал. Ежели этих подчиненных, чертей-сволочей, на короткой цепочке не держать, голову они тебе отгрызут с косточкой… Доволен папаша будет: во всем Волхове такого громобоя, как Игнатыч, не сыскать. Подопрет – не свалишься!
Сумбур-трава
Лежит солдат Федор Лушников в выздоравливающей палате псковского военного госпиталя, штукатурку на стене колупает, думку свою думает. Ранение у него плевое: пуля на излете зад ему с краю прошила – курица и та выживет. Подлатали ему шкурку аккуратно, через пять дней на выписку, этапным порядком в свою часть, окопный кисель месить. Гром победы раздавайся, Федор Лушников держись!..
А у него, Лушникова, под самым Псковом – верст тридцать, не боле, – семейство. Туда-сюда на ладье с земляком, который на базар снеток поставляет, в три дня обернешься. Да без спросу не уедешь: военное дело – не булка с маком. Не тем концом в рот сунешь – подавишься…
Подкатил он было на обходе к зауряд-подлекарю – человек свежий, личность у него была сожалеющая.
– Так и так, ваше благородие, тыл у меня теперь в полной справности, в другой раз немец умнее будет, авось с другого конца в самую голову цокнет… А пока жив, явите божескую милость, дозвольте семейство свое повидать, по хозяйству гайки подвинтить. Ранение мое, сам знаю, не геройское, да я ж тому непричинен. По ходу сообщения с котелком шел, вижу укроп дикий над фуражкой, как фазан, мотается. А нам суп энтот голый со снетком и в горло не шел. Как так, думаю, укропцем не попользоваться? Вылез на короткую минутку, только нацелился – цоп! Будто птичка в зад клюнула. Кровь я свою все ж таки, ваше благородие, пролил. Ужели русскому псковскому солдату на три дня снисхождения не сделают?…
Вздохнул подлекарь, глазки в очки спрятал.
– Я, – говорит, – голубь, тебя б хочь до самого Рождества отпустил, сиди дома, пополняй население. Да власть у меня воробьиная. Упроси главного врача, он все военные законы произошел, авось смилуется и обходную статью для тебя найдет!
Добрая душа, известно, – на хромой лошадке да в кустики.
Сунулся Лушников к главному, ан кремень, тихой просьбой не расколешь. Начальник был формальный, заведение свое содержал в чистоте и строгости: муха на стекло по своей надобности присядет, чичас же палатной сестре разнос по всей линии.
– Энто, – говорит, – пистолет, ты неладно придумал. У меня тут вас, псковичей, пол-лазарета. Все к своей губернии притулились. Ежели всех на бабий фронт к бабам отпускать, кто ж воевать до победного конца будет? Я, что ли, со старшей сестрой в резерве? У меня, золотой мой, у самого в Питере жена-дети, тоже свое семейство, некупленое… Однако ж терплю, с должности своей не сигаю, а и я ведь не на мякине замешан. Крошки с халата бы лучше сдул, ишь обсыпался, как цыган, махоркой!..
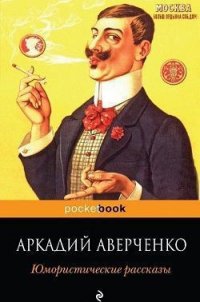
![Юмор начала XX века [сборник] - Аверченко Аркадий Тимофеевич (читать книги онлайн без регистрации txt) 📗](/uploads/posts/books/49725/49725.jpg)


