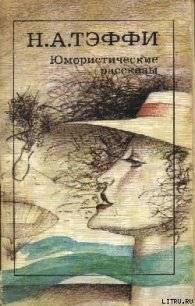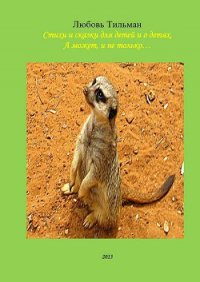Избранное - Тэффи Надежда Александровна (бесплатные полные книги .TXT) 📗
Столько хлопот, передряг. То имя перепутаешь — а ведь они обидчивые все, эти «предметы любви». Назови нечаянно Манечку Сонечкой, так ведь такая начнется история, что жизни не рад будешь. Точно имя Софья хуже, чем Марья. А то адреса перепутаешь и благодаришь за восторги любви какую-нибудь дуру, которую два месяца не видел, а «новенькая» получает письмо, в котором говорится в сдержанных тонах о том, что, к сожалению, прошлого не вернуть. И вообще все это ужасно, хотя я, мол, знаю, конечно, обо всем этом только понаслышке, так как сам способен только на вечную любовь, а вечная пока что еще не подвернулась.
Дама моя слушает, даже рот открыла. Прямо прелесть, что за дама. Совсем приручилась, даже стала говорить «мы с вами»:
— Мы с вами понимаем, мы с вами верим…
Ну и я, конечно, «мы с вами», но все в самых почтительных тонах, глаза опущены, в голосе тихая нежность — словом, «работаю шестым номером».
К двенадцати часам перешел уже на номер восьмой, предложил вместе позавтракать.
За завтраком совсем уже подружились. Хотя одна беда — очень уж она много про мужа говорила, все «мой Коля, мой Коля», и никак ее с этой темы не свернешь. Я, конечно, всячески намекал, что он ее недостоин, но очень напирать не смел, потому что это всегда вызывает протесты, а протесты мне были не на руку. Кстати, о руке — руку я у нее уже целовал вполне беспрепятственно, и сколько угодно и как угодно.
И вот подъезжаем мы к Туле, и вдруг меня осенило:
— Слушайте, дорогая! Вылезем скорее, останемся до следующего поезда! Умоляю! Скорее!
Она растерялась:
— А что же мы тут будем делать?
— Как — что делать?! — кричу я, весь в порыве вдохновения. — Поедем на могилу Толстого. Да, да! Священная обязанность каждого культурного человека. Эй, носильщик!
Она еще больше растерялась:
— Так вы говорите… культурная обязанность… священного человека.
А сама тащит с полки картонку.
Только успели выскочить, поезд тронулся.
— Как же Коля? Ведь он же встречать выедет.
— А Коле, — говорю, — мы пошлем телеграмму, что вы приедете с ночным поездом.
— А вдруг он…
— Ну, есть о чем толковать! Он еще вас благодарить должен за такой красивый жест. Посетить могилу великого старца в дни общего безверия и ниспровержения столпов.
Посадил свою даму в буфете, пошел нанимать извозчика. Попросил носильщика договорить какого-нибудь получше лихача, что ли, чтоб приятно было прокатиться.
Носильщик ухмыльнулся.
— Понимаем, — говорит. — Потрафить можно.
И так, бестия, потрафил, что я даже ахнул: тройку с бубенцами, точно на Масленицу. Ну что ж, тем лучше. Поехали. Проехали Козлову Засеку, я ямщику говорю:
— Может, лучше бубенчики-то ваши подвязать? Неловко как-то с таким трезвоном. Все-таки ведь на могилу едем.
А он и ухом не ведет.
— Это, — говорит, — у нас без внимания. Запрету нет и наказу нет, кто как может, так и ездит.
Посмотрели на могилу, почитали на ограде надписи поклонников:
«Были Толя и Мура», «Были Сашка-Канашка и Абраша из Ростова», «Люблю Марью Сергеевну Абиносову Евгений Лукин», «М. Д. и К. В. разбили харю Кузьме Вострухину».
Ну и разные рисунки — сердце, пронзенное стрелой, рожа с рогами, вензеля. Словом, почтили могилу великого писателя.
Мы посмотрели, обошли кругом и помчались назад. До поезда было еще долго, не сидеть же на вокзале. Поехали в ресторан, я спросил отдельный кабинет. «Ну к чему, — говорю, — нам показываться? Еще встретим знакомых, каких-нибудь недоразвившихся пошляков, не понимающих культурных запросов духа».
— Провели время чудесно. А когда настала пора ехать на вокзал, дамочка моя говорит:
— На меня это паломничество произвело такое неизгладимое впечатление, что я непременно повторю его, и чем скорее, тем лучше.
— Дорогая! — закричал я. — Именно — чем скорее, тем лучше. Останемся до завтра, утром съездим в Ясную Поляну, а там и на поезд.
— А муж?
— А муж останется как таковой. Раз вы его любите вечной любовью, так не все ли равно? Ведь это же чувство непоколебимое.
— И, по-вашему, не надо Коле ничего говорить?
— Коле-то? Разумеется, Коле мы ничего не скажем. Зачем его беспокоить?
Рассказчик замолчал.
— Ну и что же дальше? — спросил женский голос.
Рассказчик вздохнул:
— Ездили на могилу Толстого три дня подряд. Потом я пошел на почту и сам себе послал срочную телеграмму: «Владимир, возвращайся немедленно». Подпись: «Жена».
— Поверила?
— Поверила. Очень сердилась. Но я сказал: «Дорогая, кто лучше нас с тобой может оценить вечную любовь? Вот жена моя как раз любит меня вечною любовью. Будем уважать ее чувство». Вот и все.
— Пора спать господа, — сказал кто-то.
— Нет, пусть еще кто-нибудь расскажет. Мадам Г-ч, может быть, вы что-нибудь знаете?
— Я? О вечной любви? Знаю маленькую историю. Совсем коротенькую, Был у меня на ферме голубь, и попросила я слугу моего, поляка, привезти для голубя голубку из Польши. Он привез. Вывела голубка птенчиков и улетела. Ее поймали. Она снова улетела — видно, тосковала по родине. Бросила своего голубя.
— Tout comme chez nous[1], — вставил кто-то из слушателей.
— Бросила голубя и двух птенцов. Голубь стал сам греть их. Но было холодно, зима, а крылья у голубя короче, чем у голубки. Птенцы замерзли. Мы их выкинули. А голубь десять дней корму не ел, ослабел, упал с шеста. Утром нашли его на полу мертвым. Вот и все.
— Вот и все? Ну, пойдемте спать.
— Н-да, — сказал кто-то зевая. — Эта птица — насекомое, то есть я хотел сказать — низшее животное. Она же не может рассуждать и живет низшими инстинктами. Какими-то там рефлексами. Их теперь ученые изучают, эти рефлексы, и будут всех лечить, и никакой любовной тоски, умирающих лебедей и безумных голубей не будет. Будут все, как Рокфеллеры, жевать шестьдесят раз, молчать и жать до ста лет. Правда, чудесно?
[1] Все как у нас (фр.).
Чудесная жизнь
Среди наших стонущих, кислых парижан, часто живущих хуже, чем могли бы, из страха, как бы кто из голодающих соотечественников не попросил помощи, встретила я, наконец, человека, которому очень хорошо живется и который боится только одного — как бы это прекрасная его жизнь не оборвалась.
Хотелось бы этот единственный экземпляр великолепно устроившегося и довольного своей судьбой беженца сохранить подольше — нам на славу, большевикам на зависть.
Аминь!
На нем была бархатная куртка и плюшевая шляпа, так что я сразу поняла, что передо мной на визитной карточке, которую он торжественно показал мне и потом снова спрятал, очень жирным шрифтом было написано: «Andre d'Jvanoff, artiste de musique»[1].
Лицо у Иванова было круглое, русское, глаза детско-честные: и сами они не врут, и другим верят.
— Я скромный артист, — объяснил он мне, вероятно, для того, чтобы я не очень испугалась его карточки. — Я больше аккомпанирую, переписываю ноты. Конечно, в России было сравнительно не то. Жил я всегда в провинции. Там меня хорошо знали. Давал уроки пения в городском училище. Многие видные персоны у меня занимались. Дочь нашего исправника… У нее, извините, был боже упаси какой голос. Ну а потом сравнительно стал гораздо лучше. Она даже вышла замуж за очень известную личность, за сотрудника различных газет, наверное, изволили слышать, подписывается «Нарыв» или, виноват, «Язва». Что-то в этом роде.
— Чего же это он так?
— Да, многих это тоже сравнительно удивляло. Но что поделаешь, литература иногда требует.
— А как вы в Париж попали?
— Да, знаете ли, большевиков боюсь. Когда наш город брали, я, знаете ли, был ранен. И это сравнительно так неприятно. И вообще грязь такая, а я человек аккуратный. Удрал и не раскаиваюсь. Я здесь очень хорошо живу. Бывало, конечно, что по два дня буквально ничего не ел. Как раз тут праздник был, на улице иллюминация. Французы пляшут, а я так чего-то ослабел, что только на третий день встал. Встал, а в глазах такая иллюминация, что чуть с лестницы не упал. Ну да это сравнительно неопасно, это желудочное. Тут как раз пришел ко мне один наш русский. Он в Петрограде какой-то важный пост занимал, был при гимназии репетитором, что-то в этом роде. И вот как раз принес мне ноты переписывать для одного очень видного артиста. Вот я и устроился!