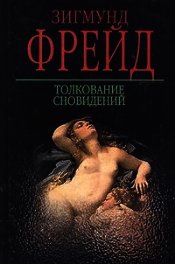Гонец из Пизы - Веллер Михаил Иосифович (читать полные книги онлайн бесплатно txt) 📗
И что они все так любят ворон?…
– Евгений Кафельников продолжает счет своих побед в турнире Большого Шлема. Вчера в третьем сете…
Ольховский разочарованно выключил телевизор. Уязвлял и унижал не только небрежно-проходной тон сообщения, но и то, что на баковое орудие и вообще на орудия камера внимания вовсе не обратила.
Как обычно, с-суки, – сказал он про себя. – Того, что торчит у них под носом и сейчас выстрелит, они вообще в упор видеть не желают. Приходи кто хочешь и бери голыми руками – это массовое отупение они называют революционной ситуацией.
Провел ладонью по щеке, проверяя глянец бритья. Брызнул на ворот шинели парадным парфюмом Эгоист Платинум. Сунул в карман зигзауэр. Послал в иллюминатор долгий недобрый взгляд под колпак Храма:
– Если бы у меня на мостике пела Пугачева, а матросики совершали гомосексуальный акт на трубе – о, это бы их расшевелило. А тут хрен ли нам, значит, шестидюймовки, эта мелочь и внимания не заслуживает!…
Храм отозвался до странности знакомым голосом:
– В том и счастье гарпунера, что левиафан в нужный момент спит.
Ольховский дико оглянулся. В дверях, небрежно подпирая косяк плечом, стоял Колчак и улыбался легко и опасно:
– Палубную вахту я вооружил и вздвоил. Ну, давай, Петр Ильич, езжай. Передай, что к ним пиздец с Балтики.
– 3 —
Выстрел Авроры в историческую ночь 25 октября 1917 года относится к тем мифическим явлениям, физическая сущность которых уточнению не поддается. Был ли выпущен снаряд из бакового орудия, который в таком случае должен был бы неслабо грохнуть в Зимнем, следов чего, однако, не осталось, или же выстрел был произведен холостой, или же холостой выстрел дала кормовая зенитка, что в положении стоянка на рейде должно было иметь значение сигнала шлюпкам вернуться на борт, или же вовсе не было никакого выстрела, а родился он из метафоры воспаленных летописцев, – о том написано немало трудов, в которых есть все, кроме достоверности искомого факта. В сущности, никакого значения это не имеет, потому что история по сути своей неотклонимо стремится к легитимизации мифа и представляет собою более или менее условную карту прошлого, постоянно уточняемую и варьируемую в соответствии с законами максимального правдоподобия и всеобщей детерминированности с одной стороны, а с другой – в соответствии с господствующими в обществе настроениями. Был ли выстрел, не было выстрела, – это ничего не меняет. Мог быть. Эффектный вариант, наглядное действие. Те самые объективные и мощные силы, которые через массовые процессы привели к социалистическому перевороту в России, могли явить себя среди прочего и в ничтожной частности одного орудийного выстрела. А могли и не явить. Один черт.
Айсберг, этот донельзя заношенный в литературе двадцатого века объект, может опрокинуться от хлопка в ладоши, когда подтаян снизу теплыми течениями до кондиции, а может опрокинуться и без всякого хлопка, и тогда на случившемся неподалеку корабле потом припомнят и поклянутся, что в этот самый миг рулевой кашлянул, вот оно и сыграло оверкиль.
Со времени изобретения огнестрельного оружия из него перестреляли неисчислимое множество народу от безымянных прохожих до русских царей и американских президентов, но только пара пуль из средней паршивости револьвера в лоб средней вшивости эрцгерцога вызвала глобальное обрушивание лавины мировой войны.
Когда невидимая рука пишет на стене мене, такел, фарес, то буквы эти тоже невидимы, и все это тот же миф, происходящий из метафоризации общественного сознания, которое улавливает сосчитанность, взвешенность и отмеренность срока существования государства, которому пришел конец: бесчисленное множество мелких и самих по себе незначимых примет окутывает и скрывает малое число крупных и значимых причин, не видимых современникам вне исторической ретроспективы, и возникает не аналитическое знание, но ощущение конца, и это ощущение может иметь силу абсолютной достоверности. Уже потом вспомнят слова на стене, которые проецируются памятью ощущений на память о стене, и напишут мемуары Кассандры, ибо торжество историка состоит в крепости заднего ума.
В крушении сгнившего и выжранного изнутри государства всегда есть краткий момент неустойчивого и хрупкого равновесия, отделяющий период хапай что можешь от следующего за ним периода спасайся кто может. Это звездный час авантюристов. Безоглядная наглость и интуитивная уверенность в безнаказанности дают колосистые всходы в самых кротких и благонамеренных мужах. Гражданское общество молниеносно преображается в скопище мелких жуликов, где правят бал банды головорезов.
Эти рассуждения имеют здесь смысл лишь как объяснение и подтверждение тому, что в критические периоды люди перестают руководствоваться рациональным и дальнобойным расчетом, потому что множество неопределенных и не зависимых от них факторов не дают возможности рассчитывать свои действия даже на год вперед, а начинают руководствоваться верхним чутьем, то есть темпераментом, интуицией и желанием. Русский авось лезет вверх, как стрелка барометра, пока не упрется в великий бунт. Или великий хаос. И тогда каждая серьезная молекула превращается в сама себе тактическую единицу.
Ольховский ощущал себя, в качестве командира крейсера, единицей оперативной. С этим ощущением он спустился в катер,
– 4 —
где флаг речной милиции был заменен на андреевский, а готовно пошедшие на спецзарплату милиционеры, благодушные после флотского завтрака с водкой, небрежно и значительно изобразили отдание чести, косолапя ладонь на американский манер.
На набережной поймал частника, разъезженный фольксваген-гольф, цвет которого постепенно переходил от серой грязи внизу к красной крыше, и за полтинник поехал в Останкино. Водитель, худенький желтоволосый парнишка в разночинских очочках, прикуривал одну сигарету от другой и рвал на желтый, обгоняя всех независимо от ряда.
– Ну, и почем у вас бензин? – спросил он, определив приезжего и узнав, что тот из Петербурга. – А зарплаты такие же? Говорят, ваш мэр под Лужковым лежит. – И хладнокровно подрезал БМВ, проскочив перекресток.
Острие Останкинской башни терялось в летящем тумане. Ольховский дважды сбегал взад-вперед через широкую и буквально простреливаемую полетом машин улицу Академика Королева, выясняя нужный ему корпус. Блочные здания телецентра стояли, однако, в нейтральном отдалении от вышки.
В вестибюле пришлось унизительно препираться с охраной и вести долгие нудные переговоры через стеклянную стойку бюро пропусков. Секретарша главного редактора отрезала по телефону, что шеф в командировке. У заведующего редакцией новостей шло совещание.
В конце концов (он успел стереть грязные брызги с брюк над каблуками) спустилась какая-то девочка – то есть сорокалетняя дама с вечной взмыленностью в чертах увядающего личика. Девичьими манерами и интонациями она пыталась привести свой явный возраст в необидное соответствие с малой социальной значимостью и, видимо, столь же незначительной зарплатой. Эта загнанная судьбой в пятый десяток девочка приняла пакет и заверила, что передаст сразу после конца совещания. Дать расписку в получении пакета она отказалась, а на вопрос о телефоне продиктовала номер справочной, налепленный тут же на стекло бюро пропусков.
– Это обязательно должно прозвучать сегодня в двадцать один ноль-ноль – в девять вечера! В новостях! – с предельной вескостью внушал Ольховский, продолжая держаться двумя пальцами за большой желтый пакет, засургученный в центре и по углам.
– Это решаю не я, но мы все обязательно рассмотрим прямо очень вскоре, – нетерпеливо уверяла дама.
– Вы оцените – это сенсация. Это бомба! – гипнотизировал Ольховский, меняя обольстительную улыбку на каменную официальность и обратно. – Желательно дать в начале.
– С эфирным временем всегда бывают сложности, но если у вас горячая информация, то все будет о'кей, – она пританцовывала и поглядывала на часы. Ольховскому пришло в голову, что она пытается выглядеть собственной дочерью и, наверное, дома присматривается к ее манерам и перенимает тинейджерский слэнг и приколы, возможно даже репетируя их в ванной перед зеркалом.