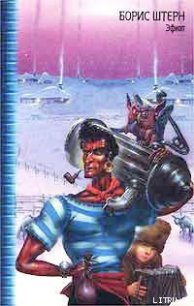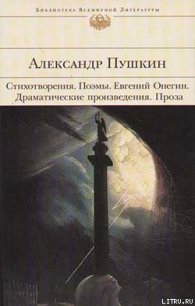Эфиоп, или Последний из КГБ. Книга I - Штерн Борис Гедальевич (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
Корнет Оболенский принес антисемитские рифмы:
А штабс-капитан Таксюр, забыв, где находится, совсем уж ни к селу, ни к городу, ни в дугу, ни в Красную Армию, написал русофобские вирши:
Ну как такое публиковать?
Булат Шалвович ничего не приносил хлопчику, музыки не заказывал, ничего не говорил, а только стоял в сторонке, нюхал eboun-траву, ощущал неслыханный прилив сил в нижней половине тела, упрятанной в офицерские галифе, слушал и записывал в сафьяновый блокнотик современный южно-русский фольклор:
«Вагончики-чики, — записывал Булат Шалвович, — япончики-чики, апельсинчики-чики, лимончики-чики, пончики-чики, карманчики-чики, стаканчики-чики, чубчики-чики, голубчики-чики, пальчики-чики, нохылылысь на трави одуванчики-чики».
Однажды Сашко свернул козью ножку с eboun-травой, закурил, подмигнул Булату Шалвовичу и выдал специально для него:
— А не боишься, что я тебя за такой фольклор в контрразведку сдам? — спросил Булат Шалвович.
— Не-а, — ответил Сашко и спел:
— Конъюнктурщик ты юный, — процедил Булат Шалвович, переминаясь с ноги на ногу. Eboun-трава с купидоновым порошком таки здорово действовала, полковник чувствовал прилив молодых сил и любви к отечеству.
— Не обижаешься, что я тебя байстрюком обозвал?
— Не-а, — ответил Сашко.
Полковник так умилился, что достал из кошелька царский золотой рубль и положил на панель аккордеона: — Давай весь мешок.
— Не, мешок мне нужен, — пожадничал Сашко.
Полковник пересыпал eboun-траву в косматую папаху и отправился в редакцию нюхать. На следующий день Булат Шалвович вышел на берег моря, чтоб еще чего-нибудь фольклорного записать, а хлопчика и нету. Много воды утекло с тех пор, Булату Шалвовичу из-за любви к отечеству не захотелось эвакуироваться во Францию; он уничтожил блокнот с фольклором, постригся наголо, оделся обывателем, подделал документы, покраснел, начал писать советские стихи, был, в общем, счастлив, экономно держал свой темперамент на запасе eboun-травы, вступил в союз пролетарских писателей, редактировал газету «Культура и жизнь», куда теперь уже пролетарские графоманы носили свои перлы («Пес завизжал, как автомобильные тормоза, и ощетинился зубами за»), заделался известным советским поэтом, но в конце концов крепко залетел — отпетые частушки Сашка Гайдамаки на Графской пристани так врезались ему в память, что лет через пятнадцать полковник Окуджава написал свое знаменитое, несравненное и гениальное:
За что и был расстрелян без суда и следствия по приговору мчащейся неизвестно куда особой тройки НКВД.
— HIXTO не втече, — сумрачно прокомментировал Сашко Гайдамака, когда узнал о судьбе полковника Окуджавы.
ГЛАВА 17
НЕЗНАКОМЕЦ ПОЯВИЛСЯ В НАЧАЛЕ
февраля; в тот морозный день, бушевали ветер и вьюга.
События начались с появления в Гуляй-граде нового человека по фамилии Скворцов. Никто потом не мог вспомнить, откуда он взялся. Скворцов вроде бы купил здесь домик и переселился помирать на родину предков откуда-то с туруханского Крайнего Севера от самого Блядовитого океана.
Никто его здесь ни во что не ставил, и все над ним беззлобно посмеивались. Тихий был человек и какой-то весь примороженный — летом ходил в коротком поношенном пальто, зимой — в черной шубе на рыбьем меху. Все ему тепла не хватало, все Скворцов о тепле заботился: в летнюю жару кутался в шарф, а кроличью шапку-ушанку вообще не снимал — наверно, в ней и спать ложился. Будто промерз весь до основанья на Крайнем Севере. Но деньги он имел, всегда можно было стрельнуть червонец. За его забором то дрова разгружают, то уголь; то стены стекловолокном утепляют, то в доме новую печь кладут, то перекладывают, то все лето труба дымит (самогон гонит? — не гонит, не пьет, проверено!), то во дворе костер горит, у костра под лупой Скворцов сидит, озябшие руки греет, над ним летучая мышь летает — большая, с-собака! Слова он связывал с таким трудом, что, бывало, начнет говорить, а все уже разошлись. Никак не мог на работу устроиться, посоветовали ему в насмешку (а как же! — страна Советов!) обратиться прямо с улицы в райком партии, он и пошел. Пришел в райком, посмотрели ему в райкоме в кругленькие очки — очки Скворцов носил с такими толстыми стеклами, что глаз не видно, — документы толком не проверили, решили — человек безобидный, неприкаянный, примороженный, пострадал в 37-м за генетику — и назначили Скворцова командовать районной селекционной станцией — ну там, семена, агрохимия, говно-удобрения, битва за урожай.
Однажды весной заглянул Скворцов на огонек в дорожный отдел и сказал:
— Здравствуйте, командир…
— Ну, здравствуй, Скворцов, — ответил Гайдамака, откладывая «Перо и шпагу».
Замолчали. Скворцов умел замолкать. Пришел и молчит.
— С чем пожаловал?
— Командир… одолжите мне. Пожалуйста…
— Денег? Не могу. Сам сижу на колу.
— Нет, не денег… Деньги у меня есть. Угля… Тонны три. Сколько можете…
— Подайте, Христа ради, кто сколько может! — жалисно передразнил Гайдамака. — Зачем тебе уголь, Скворцов? Очки протри — весна на дворе.
— Да холодно тут… у вас. А я вам чего-нибудь в обмен… предоставлю. Вы — мне, я — вам…
— Говори быстрее, не жуй слова. Что ты можешь мне предоставить?
— А что вам нужно?..
— Щебенку — можешь?
— Щебенку?.. — надолго задумался Скворцов. — Щебенку не могу… А вот реголит могу… Берите реголит, пока есть… Пока в порту… сухогруз стоит.
— Подожди, не спеши, говоришь много. Дай вспомнить… Реголит, реголит… Что это — реголит?
— Да лучше, чем щебенка…
Слово «реголит» Гайдамака когда-то знал, но забыл. Дай Бог памяти: реголит, реголит… Что-то знакомое. Какой-то стройматериал, что ли?
— Ладно, по рукам. Давай свой реголит. Один к двум — три тонны угля на шесть тонн реголита.
— Я вам больше достану!.. — обрадовался Скворцов, протер, не снимая, очки и ушел, дыша в шарф.