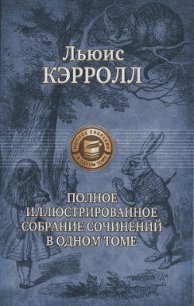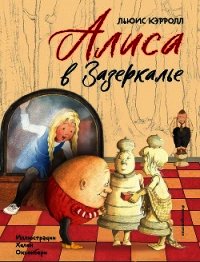Досуги математические и не только. Книга 2 - Кэрролл Льюис (книги без регистрации полные версии .txt) 📗
РАССКАЗЫ
НОВИЗНА И РОМАНТИЧНОСТЬ
Поначалу я испытывал большие затруднения, назвать ли описываемый период моей жизни «Причитанием» или же «Хвалебной песнью», так много содержится в нём великого и восхитительного, так много мрачного и жестокого. Но в поисках чего-нибудь среднего между этими двумя обозначениями я, наконец, остановился на приведённом выше заглавии — разумеется, неверном; я всегда поступаю неверно, но позвольте эту тему не продолжать. Настоящий оратор, как правило, никогда не поддаётся наплыву чувств при зачине; всё, что он может себе позволить, взяв слово, — это банальнейшие общие места, а распаляется он уже потом и постепенно. Как говорится, «vires acquirit eundo» [79]. Поэтому пока достаточно лишь сказать, что зовут меня Леопольд Эдгар Стаббс. Я умышленно заявляю об этом, предваряя свой рассказ, с тем чтобы читатель по какой-либо случайности не спутал меня со знаменитым сапожником с Потл-стрит, Кэмберуэлл, носящим такое же имя, или с моим менее достойным уважения, но более известным однофамильцем, комедийным актёром Стаббсом из Канады. Какие-либо отношения с ними обоими я отвергаю с ужасом и презрением, но ведь нет преступления в том, чтобы зваться так же, как эти два вышеупомянутых человека, которых я никогда в глаза не видел и, надеюсь, никогда не увижу.
Но покончим с общими местами.
Ответь же мне ныне, человече, мудрый в разгадывании снов и знаков, как случилось, что в некую пятницу вечером, круто свернув с Грейт Уотлс-стрит, я внезапно и без особой радости столкнулся с отзывчивым малым нерасполагающей наружности, но с глазами, сверкавшими натуральным огнём гениальности? Ночью я размечтался, что великая идея моей жизни на пороге осуществления. Какова же великая идея моей жизни? Я тебе расскажу. Расскажу со стыдом и скорбью.
С мальчишеских лет моим томлением и страстью (преобладавшими над увлечением игрой в мраморные шарики и беготнёй голова в голову и сравнимыми разве что с любовью к ирискам) была поэзия — поэзия в самом широком и неопределённом значении слова, поэзия, не сдерживаемая законами смысла, рифмы или ритма, а воспаряющая над миром и звучащая отголосками музыки небесных сфер! Ещё с юности — нет, с самой колыбели жаждал я поэзии, красоты, новизны и романтичности. Когда я говорю «жаждал», я использую слово, мало подходящее для описания своих переживаний в минуты душевного умиротворения; оно так же способно обрисовать безудержную импульсивность моего вдохновения, как те далёкие от анатомической достоверности картинки, украшающие наружные стены театра Адельфы и представляющие Флексмора во всех мыслимых положениях, никогда доселе не удававшихся человеческому телу, дают склонным порассуждать посетителям партера действительное понятие о мастерстве и ловкости этого замечательного симбиоза живой плоти и каучука.
Но я отклонился в сторону, — вот странность, если мне позволено будет так выразиться, характерная для жизни; а как я обнаружил однажды (время не позволяет мне рассказать об этом случае поподробнее), на мой вопрос «Что же такое жизнь?» никто-таки из присутствующих (а наша компания насчитывала девятерых, включая официанта, и вышеозначенное наблюдение было сделано уже после того, как убрали суп) не был в состоянии дать мне рассудительный ответ.
Стихи, которые я писал в ранний период моей жизни, отличались совершеннейшей свободой от общепринятых норм и, таким образом, не соответствовали существующим литературным требованиям, — лишь будущие поколения станут их читать и восхищаться, «когда Мильтон, — так частенько восклицал мой почтенный дядюшка, — когда Мильтон и ему подобные будут забыты!» Если бы не этот благожелательный родственник, я бы твёрдо уверовал, что поэзия моей души никогда не выберется в свет; я до сих пор не забыл то чувство, что проняло меня, когда он протянул мне шестипенсовик за рифму к слову «тирания». И правда, успех никогда не сопутствовал мне в подборе рифм, но в следующую же среду я занёс на бумагу свой известный «Сонет к умершей кошке», а в течение последующих двух недель начал сразу три эпические поэмы, названия которых я теперь и не упомню.
За свою жизнь я подарил неблагодарному миру семь томов поэзии; они разделили судьбу всякого истинно гениального творения — безвестность и презрение. И не из-за того, что в их содержании можно было обнаружить те или иные нелепости; каковы бы ни были их недочёты, ни один рецензент пока не отваживался их критиковать. Таковы факты.
Единственное моё произведение, возбудившее в свете хоть какой-то шум, было сонетом, адресованным одному из членов муниципалитета Магглтона-кум-Суилсайд по случаю его избрания мэром этого города. Сонет широко ходил по рукам и некоторое время вызывал многочисленные разговоры; и хотя его герой в силу типичной неразвитости ума не сумел оценить по достоинству содержащиеся в стихотворении тонкие комплименты и, по правде говоря, отзывался о нём скорее невежливо, я склонен думать, что моё творение обладало всеми признаками великого произведения. Заключительная строфа была добавлена по совету одного друга, который уверил меня в необходимости завершить мысль. Я прислушался к его зрелому суждению.
Альфред Теннисон, конечно, поэт-лауреат [80], и не мне обсуждать его притязания на этот высокий титул, но вот я всё думаю, что если бы только правительство выступило в то время непредвзято и объявило всеобщий конкурс, предложив кандидатам для проверки их способностей какую-нибудь задачу (скажем, «Пилюли здоровья от Фремптона, акростих»), то результат мог бы оказаться совершенно иным.
Но вернёмся к нашим баранам (как совершенно неромантично выражаются наши благородные союзники [81]) и к мастеровому с Грейт Уотлс-стрит. Он вышел из маленького магазинчика — ну и топорно тот был сколочен, впридачу чрезвычайно обветшал и вообще выглядел жалко! Что же я увидел такого, из чего можно было бы заключить, что в моём существовании наступает великая эпоха? Читатель, я увидел вывеску!