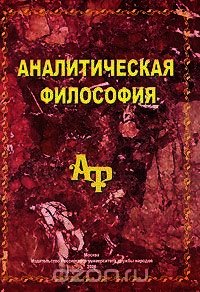Эмпиризм и субъективность. Критическая философия Канта. Бергсонизм. Спиноза (сборник) - Делез Жиль (читать книги онлайн регистрации .txt) 📗
В любом случае, всегда есть связности, вступающие в композицию своим чередом согласно вечным законам, присущим всей природе в целом. Нет Добра и Зла, а есть хорошее и дурное (для нас): хорошее имеет место, когда тело непосредственно сочетает свою связность с нашей и — благодаря всему или части своего могущества — наращивает наше могущество. Например, пища. Дурное для нас имеет место, когда какое-то тело разлагает нашу телесную связность, и пусть оно даже при этом вступает в композицию с частями нашего тела, но вступает в композицию в таких связностях, которые не соответствуют нашей сущности: например, яд разрушает кровь. Значит, хорошее и дурное прежде всего имеют объективный смысл, но относительный и частный: смысл согласования или не согласования с нашей природой. А отсюда следует, что у хорошего и дурного есть второй смысл, субъективный и модальный, качественно определяющий два типа, два модуса человеческого существования: будем называть хорошим (свободным, разумным или сильным) того, кто прилагает усилие — насколько он на это способен — организовать свои встречи, объединиться с тем, что согласуется с его природой, и, таким образом, увеличить собственное могущество. Ибо доброта — это вопрос динамизма, могущества и композиции способностей. Будем называть плохим — рабом, слабым или глупым — того, кто ведет беспорядочный образ жизни, кто довольствуется результатами от случайных встреч, но каждый раз ноет и жалуется, что полученный результат противоположен ожидаемому, и кто, тем самым, обнаруживает свое собственное бессилие. Ибо, встречаясь с кем попало и полагая, будто благодаря своей смекалке и хитрости мы всегда выпутаемся из любых обстоятельств, как можно уклониться оттого, чтобы иметь больше дурных встреч, чем хороших? Можно ли, испытывая чувство вины, избежать саморазрушения, можно ли, будучи озлобленным, избежать разрушения других, распространяя при этом повсеместно собственное бессилие и униженность, собственные болезни, подавленность и яды? Более того, мы не можем встретиться даже с самими собой.10
Именно так Этика, являющаяся, так сказать, топологией имманентных модусов существования, смещает Мораль, которая всегда связывает существование с трансцендентными ценностями. Оппозиция ценностей (Добро-Зло) вытесняется качественным различием модусов существования (хорошо-дурно). Иллюзия ценностей ничем не отличается от иллюзии сознания: поскольку сознание по существу невежественно, поскольку оно не принимает во внимание порядок причин и законов, порядок связностей и их композиций, поскольку оно довольствуется ожиданием и принятием действий-эффектов, постольку сознание превратно понимает всю Природу в целом. Теперь, чтобы морализировать, достаточно ничего не понимать. Ясно, что нужно лишь не понимать закон, чтобы тот явился для нас в форме морального «Ты должен». Если мы действительно не понимаем тройного правила, то будем применять его, будем твердо придерживаться его как долга. Если Адам не понимает правила взаимоотношений собственного тела с плодом, то он интерпретирует слово Бога как запрет. Более того, запутанная форма морального закона так скомпрометировала закон природы, что философы даже не смеют говорить о естественных законах, а только о вечных истинах. «Но слово „закон“ применяется, по-видимому, в переносном смысле к естественным вещам, и под законом обыкновенно понимается ни что иное, как распоряжение…».11 Как говорит Ницше о химии — то есть науке о ядах и противоядиях, — нужно быть осторожнее со словом закон, в нем чувствуется моральный привкус. Однако эти две области — область вечных истин природы и область моральных институциональных законов — легко разделить, если только присмотреться к результатам их действий. Давайте осознанно вслушаемся в это слово: моральный закон — это некая обязанность; у него нет иного результата, нет иной конечной цели, кроме покорности. Такая покорность может быть совершенно необходима, а приказы — вполне оправданы. Но речь не об этом. Закон — будь он моральный или социальный — не сообщает нам никакого знания; он ничего не делает известным. Хуже того, он препятствует формированию знания (закон тирана). В лучшем случае, он подготавливает знание и делает его возможным (закон Авраама или Христа). Между этими двумя полюсами он занимает место знания у тех, кто — в силу собственного модуса существования — не способен познавать (закон Моисея). Но в любом случае, между знанием и моралью, между отношением приказ-подчинение и отношением познаваемое-знание постоянно обнаруживается некое различие по природе. По Спинозе, трагедия теологии и ее вредоносность не только спекулятивны; они возникают из-за практического смешивания этих двух различных по природе порядков, — смешивания, которое теология исподволь внушает нам. В конечном счете, теология считает, что Святое писание закладывает фундамент знания, даже если это знание должно развиваться рационально или передаваться, транслироваться с помощью разума: отсюда гипотеза о моральном, созидающем и трансцендентном Боге. Именно тут, как мы увидим, присутствует некое смешивание, компрометирующее всю онтологию в целом: история долгой ошибки, когда мы путаем приказ с тем, что должно быть понято, покорность — с самим знанием, а Бытие — с Fiat[13]. Закон — всегда трансцендентная инстанция, задающая противостояние ценностей Добра и Зла, но знание — всегда имманентная способность, определяющая качественное различие хороших и дурных модусов существования.
Последнее обстоятельство мы считаем крайне важным. Что же такое зло, но не с точки зрения того, кто ему подвергается, а с точки зрения того, кто его делает? Не с точки зрения того, кто умирает, а с точки зрения того, кто несет смерть? Ибо, даже если претерпеваемое зло — зло испытываемое пострадавшим — это всегда нарушение пищеварения, то тогда чем же является зло злоумышленника? Ответ Спинозы может показаться парадоксальным, почти нетерпимым, если мы не вспомним, что суть парадокса в его способности выявлять бессознательное. Спиноза говорит — тот, кто убивает, не виновен. Не важны ни тот или иной поступок, ни удар, ни занесенный нож. Что принимается в расчет, так это сообщается ли объекту данным поступком некое бытие, или же собственная связность объекта будет таким образом разрушена. Дурное намерение состоит исключительно в том, что идея какого-либо действия оказывается связанной с идеей объекта так, что последний не выносит данного действия, ибо его связность разрушается, а части вступают в другие несовместимые друг с другом связности.12 Следовательно, зло совершаемое злоумышленниками — это еще и результат плохих встреч, плохих связей и композиций у тех, кто не способен к познанию, неспособен вырваться из собственного рабства и отбросить собственные неадекватные идеи. И еще, нужно различать два случая: если Орест и убивает Клитемнестру, то как раз потому, что та прежде убила Агамемнона — своего мужа, отца Ореста; а значит, она разрушила связность, составляющую конституцию самого Ореста. Напротив, когда Нерон убивает Агриппину, то именно ему принадлежит инициатива разрушения, и вот почему Агриппина, не смотря на ее проступки, является первой жертвой.13 Но как бы то ни было, что касается зла, в нем присутствует только лишь «дурное», в нем нет ничего, что выражает какую-либо сущность.
III. — Обесценивание всяческих «мрачных состояний» (в пользу удовольствия): Спиноза — атеист
Если бы Этика и Мораль лишь по-разному интерпретировали одни и те же заповеди, то разница между ними была бы только теоретическая. Но это не так. Всем своим творчеством Спиноза не перестает осуждать три типа персонажей: человек в мрачном состоянии; человек, эксплуатирующий мрачные состояния и нуждающийся в них, дабы учредить собственную власть; и, наконец, тот, кто омрачен человеческими условиями и темными человеческими страстями вообще (он может высмеивать эти страсти, только когда презирает их, но такое осмеяние — это дурной смех). Раб, тиран и священник. Начиная с Эпикура и Лукреция ясно показана глубокая внутренняя связь между тиранами и рабами: «Высшая тайна монархического правления и величайший его интерес заключаются в том, чтобы держать людей в обмане, астрах, которым они должны быть сдерживаемы, прикрывать громким именем религии, дабы люди сражались за свое порабощение, как за свое благополучие, и считали не постыдным, а в высшей степени почетным не щадить живота и крови ради тщеславия одного какого-нибудь человека».14 Потому что мрачное состояние — это комплекс, воссоединяющий безграничность желаний с волнениями души, алчность с суеверием. «Те, кто наиболее пылко принимают на веру каждый вид суеверия, не могут помочь, но являются теми, кто слишком неумеренно желает внешних выгод…»15 Тиран нуждается в омраченных душах, дабы преуспеть, также как и омраченным душам нужен тиран, чтобы быть довольными и плодиться. В любом случае, что их объединяет — так это ненависть к жизни, озлобленность против жизни. Значит, у Спинозы есть хорошо продуманная философия «жизни»: состоит она как раз в осуждении всего того, что отделяет нас от жизни, в осуждении всех отворачивающихся от жизни трансцендентных ценностей — ценностей, которые привязаны к условиям и иллюзиям сознания. Жизнь отравлена категориями Добра и Зла, вины и заслуги, греха и искупления.16 Что отравляет жизнь, так это ненависть, включая ненависть, оборачивающуюся против нас самих в форме вины. Шаг за шагом Спиноза прослеживает ужасное сцепление мрачных состояний: сначала уныние само по себе, а потом ненависть, отвращение, страх, осмеяние, отчаяние, morsus conscientiae[14], жалость, подавленность, зависть, приниженность, раскаяние, самоунижение, стыд, сожаление, гнев, месть, жестокость… Его анализ заходит настолько далеко, что даже в надежде и уверенности он может обнаружить зерно неудовольствия, которого достаточно, чтобы превратить последние в чувства рабов.17 Подлинный город предлагает своим жителям любовь к свободе, а не надежду на награду и даже не безопасность собственности; ибо «рабам, а не свободным людям назначаются награды за добродетель».18 Спиноза не из тех, кто полагает, что у неудовольствия, или мрачного состояния, есть что-то положительное. Уже до Ницше он осудил любые фальсификации жизни, любые ценности, от имени которых мы третируем жизнь: мы не живем, а имеем лишь некое подобие жизни, мы только мечтаем, как избежать смерти, а вся наша жизнь — ни что иное, как поклонение этой самой смерти.