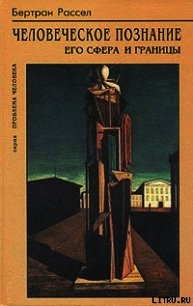История западной философии - Рассел Бертран Артур Уильям (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Это, однако, доводы нашего времени, они не были бы верны в прошлые времена, когда аристократия не вызывала сомнений. Правительство Египта управляло по принципам Ницше несколько тысячелетий. Правительства почти всех больших государств были аристократическими до американской и французской революций. Мы должны поэтому спросить себя: имеются ли достаточные причины предпочитать демократию форме правления, имеющей столь долгую и преуспевающую историю, или, вернее, так как мы занимаемся философией, а не политикой, имеются ли объективные основания отвергнуть этику, с помощью которой Ницше поддерживает аристократию.
Этическим вопросом, в противоположность политическому, является вопрос о сочувствии. Сочувствие выражается в том, что становишься несчастным из-за страданий других, и это до некоторой степени естественно для человеческого существа. Маленькие дети огорчаются, когда слышат, как плачут другие дети. Но развитие этого чувства у разных людей идет по-разному. Некоторые находят удовольствие в том, что причиняют страдание, другие, например, Будда, чувствуют, что они не могут быть полностью счастливы до тех пор, пока какое-нибудь живое существо страдает. Большинство людей эмоционально делит человечество на друзей и врагов, сочувствуя первым, но не вторым. Такие этики, как христианская и буддистская, содержат в своей эмоциональной основе универсальное сочувствие, а этика Ницше – полное отсутствие сочувствия. (Проповеди Ницше часто направлены против сострадания, и чувствуется, что в это отношении ему было нетрудно следовать своим заповедям.)
Вопрос таков: если устроить диспут между Буддой и Ницше, смог бы кто-нибудь из них привести такой довод, который пришелся бы по вкусу беспристрастному слушателю? Я не имею в виду политических аргументов. Мы можем вообразить, что они оба предстали перед Всемогущим, подобно сатане в первой главе книги Иова, и дают ему советы, какого рода мир должен он создать. Что мог бы сказать каждый из них?
Будда начал бы спор, говоря о прокаженных, отверженных, бездомных и несчастных; о бедняках, у которых болят натруженные руки и которые едва поддерживают жизнь скудным пропитанием; о раненых в битвах, умирающих в медленной агонии; о сиротах, с которыми плохо обращаются жестокие опекуны и даже о наиболее удачливых, но преследуемых мыслями о крахе и смерти. Из всего этого бремени печали, сказал бы он, надо найти путь к спасению, а спасение может прийти только через любовь.
Ницше, которому лишь всемогущество Бога могло бы помешать прервать Будду, разразился бы, когда пришла его очередь: «О господи! Человече, ты должен научиться быть более толстокожим. Зачем хныкать из-за того, что простой люд страдает, или даже потому, что великие люди страдают? Простой люд страдает обыденно, страдания великих людей велики, а великие страдания не нуждаются в сожалении, так как они благородны. Твой идеал чисто отрицательный – это отсутствие страданий, которое может быть полностью обеспечено лишь в небытии. А у меня положительные идеалы: я восхищаюсь Алкивиадом, императором Фридрихом II и Наполеоном. Ради таких людей любое страдание оправдано. Я взываю к тебе, Боже, как к величайшему из творцов-художников, не позволяй, чтобы Твои артистические порывы обуздывала дегенеративная обуянная страхом болтовня этого несчастного психопата».
Будда, который на небесах успел изучить историю всего, что произошло после его смерти, и овладел наукой, восхищаясь знанием и печалясь по поводу его применения людьми, отвечает со спокойной вежливостью: «Вы ошибаетесь, профессор Ницше, думая, что мой идеал чисто отрицателен. Действительно, он включает негативный элемент – отсутствие страдания, но вдобавок он имеет столько же позитивного, сколько можно найти в вашем учении. Хотя я и не особенно восхищаюсь Алкивиадом и Наполеоном, у меня тоже есть свои герои: мой последователь Иисус, потому что он учил людей любить своих врагов; люди, открывшие, как управлять силами природы и затрачивать меньше труда на добывание пищи; врачи, нашедшие средства против болезней; поэты, артисты и музыканты, которые несут на себе печать божественного блаженства. Любовь, знание и наслаждение красотой – это не отрицание; этого достаточно, чтобы наполнить жизнь самых великих из когда-либо живших людей».
«Все равно, – ответил бы Ницше, – ваш мир был бы пресным. Вам надо бы изучать Гераклита, чьи труды полностью продолжают существовать в небесной библиотеке. Ваша любовь – это жалость, вызываемая состраданием; Ваша истина, если вы честны, – неприятна, ее можно познать только через страдание; а что касается красоты, то что более прекрасно, чем тигр, великолепие которого – в его свирепости? Нет, я боюсь, что если Господь предпочитает Ваш мир, то мы все умрем со скуки».
«Может быть, вы и умрете, – отвечает Будда, – потому что вы любите страдания, а ваша любовь к жизни – притворство. Но те, кто действительно любит жизнь, были бы счастливы так, как никто не может быть счастлив в теперешнем мире».
Что касается меня, то я согласен с Буддой, с тем Буддой, какого я изобразил. Но я не знаю, как доказать, что он прав, с помощью доводов, подобных доводам в математическом или естественнонаучном споре. Мне неприятен Ницше потому, что ему нравится созерцать страдание, потому, что он возвысил тщеславие в степень долга, потому, что люди, которыми он больше всего восхищался, – завоеватели, прославившиеся умением лишать людей жизни. Но я думаю, что решающий аргумент против философии Ницше, как и против всякой неприятной, но внутренне непротиворечивой этики, лежит не в области фактов, но в области эмоций. Ницше презирает всеобщую любовь, а я считаю ее движущей силой всего, чего я желаю для мира. У последователей Ницше были свои удачи, но мы можем надеяться, что им скоро придет конец.
Глава XXVI. УТИЛИТАРИСТЫ[392]
В течение всего периода от Канта до Ницше профессиональные философы Великобритании почти не испытывали влияния своих немецких современников; единственным исключением был сэр Уильям Гамильтон, но он сам не имел большого влияния. Правда, Кольридж и Карлейль подверглись глубокому воздействию Канта, Фихте и немецких романтиков, но они не были философами в специальном смысле этого слова. Кто-то, кажется, однажды заговорил о Канте с Джеймсом Миллем, который после недолгого раздумья заметил: «Я вполне понимаю, каковы были намерения бедняги Канта». Но подобная степень признания является исключением, в целом о немцах хранили полное молчание. Бентам и его школа унаследовали основные черты своей философии от Локка, Хартли и Гельвеция; они имели не столько философское, сколько политическое значение – как вожди британского радикализма, люди, которые непреднамеренно подготовили почву для учения социализма.
Иеремия Бентам, признанный глава «философского радикализма», был совсем не таким человеком, которого ожидаешь увидеть во главе подобного движения. Он родился в 1748 году, но радикалом стал только в 1808 году. Он был болезненно застенчив и не мог без трепета выносить незнакомое общество. Как писатель он был очень плодовит, но никогда не утруждал себя печатанием своих работ. То, что опубликовано под его именем, было похищено у него и напечатано его благожелательно настроенными друзьями. Больше всего его интересовала юриспруденция, своими наиболее важными предшественниками в этой области он считал Гельвеция и Беккариа. Именно в связи с теорией права он начал интересоваться этикой и политикой.
Всю свою философию он основал на двух принципах: «принципе ассоциации» и «принципе наибольшего счастья». Принцип ассоциации подчеркивал еще Хартли в 1749 году; до Хартли хотя ассоциацию идей и признавали, но рассматривали ее (например, Локк) только как источник тривиальных ошибок. Бентам, следуя за Хартли, сделал ее основным принципом психологии. Он признавал ассоциацию идей с идеями, а также ассоциацию идей с языком. С помощью этого принципа Бентам стремился дать детерминистское истолкование духовных явлений. По существу, это то же учение, что и более современная теория «условных рефлексов», основанная на экспериментах Павлова. Самое важное их различие в том, что павловский условный рефлекс физиологичен, тогда как ассоциация идей – чисто духовная. Поэтому работам Павлова можно дать материалистическое объяснение, какое и дали им бихевиористы, тогда как ассоциация идей приводит скорее к психологии, более или менее не зависящей от физиологии. Нет никакого сомнения в том, что с научной точки зрения принцип условного рефлекса есть развитие более старого принципа. Принцип Павлова таков: если дан рефлекс, согласно которому раздражитель В вызывает реакцию С, и если дано, что некоторое животное часто подвергается действию раздражителя А одновременно с В, то нередко случается, что через некоторое время раздражитель А будет вызывать реакцию С даже при отсутствии раздражителя В. Определить обстоятельства, при которых это происходит, – предмет эксперимента. Ясно, что если мы заменим А, В и С идеями, то принцип Павлова превратится в принцип ассоциации идей.