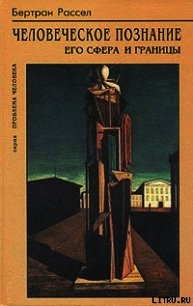История западной философии - Рассел Бертран Артур Уильям (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Байрон, хотя он чувствовал себя равным сатане, никогда не отваживался ставить себя на место Бога. Этот следующий шаг в увеличении гордыни был сделан Ницше, который говорил: «Если бы существовали Боги, как бы я мог вынести, что я не Бог! Следовательно, Боги не существуют». Тайным основанием этого рассуждения является: «Все, что унижает мою гордость, должно быть осуждено как ложное». Ницше, подобно Байрону, получил благочестивое воспитание, но, будучи более интеллектуальным, он нашел лучший выход, чем сатанизм. Он, однако, очень симпатизировал Байрону. Ницше говорил:
«Трагедия в том, что в эти догмы религии и метафизики нельзя верить, если соблюдать в сердце и голове строгий метод истины; и, с другой стороны, благодаря развитию человечества мы стали столь нежными, раздражительными и чувствительными в страданиях, что нуждаемся в сильнейших средствах исцеления и утешения; отсюда возникает опасность, что человек может истечь кровью от познания истины. Это выражает Байрон в бессмертных стихах:
Печаль есть знание; те, кто знает очень много,
Могут сетовать на горечь роковой истины!
Древо знания – не древо жизни.
Иногда, хотя и редко, Байрон подходит очень близко к точке зрения Ницше. Но вообще этическая теория Байрона, в противоположность его практике, остается обыденной.
Великий человек, по Ницше, подобен Богу. По Байрону, это обычно титан, воюющий сам с собой. Иногда, однако, он рисует мудреца, не похожего на Заратустру, – Корсар в отношении к своим последователям:
Он знал искусство власти, что слепой Всегда владеет, леденя, толпой.
И тот же самый герой «слишком ненавидит человека, чтобы чувствовать угрызения совести». Сноска уверяет нас, что Корсар имеет истинную человеческую природу, потому что подобные же черты выявляются у Гензериха, короля вандалов, Эццелино, тирана гибеллинов, и у некоторых луизианских пиратов.
Байрону не надо было ограничивать себя Левантом и средними веками в поисках героя, поскольку нетрудно было облечь в романтическую мантию Наполеона. Влияние Наполеона на воображение Европы XIX века было очень глубоким. Он вдохновил Клаузевица, Стендаля, Гейне, мысль Фихте и Ницше и действия итальянских патриотов. Его дух гордо шествует по веку – единственная сила, которая достаточно мощна, для того чтобы противостоять индустриализму и торговле, обливая презрением пацифизм и лавочничество. «Война и мир» Толстого является попыткой изгнания его духа, но попыткой тщетной, так как призрак Наполеона никогда не был так силен, как сегодня.
Во время Ста дней Байрон высказывал свое пожелание победы Наполеону, и, когда услышал о Ватерлоо, он сказал: «Я чертовски сожалею об этом». Лишь однажды выступил он против своего героя – в 1814 году, когда (как он полагал) самоубийство было бы более приличным, чем отречение. В этот момент он искал утешения в доблести Вашингтона, но после возвращения Наполеона с Эльбы эта попытка перестала быть необходимой. Во Франции, когда умер Байрон, «во многих газетах было отмечено, что два величайших человека столетия – Наполеон и Байрон – исчезли почти одновременно»[388].
Карлейль, который одно время рассматривал Байрона как «благороднейший дух в Европе» и чувствовал себя как бы младшим его братом, стал впоследствии предпочитать Гёте, но он еще сопоставляет Байрона и Наполеона:
«Для ваших благородных умов обнародование такого создания искусства на том или другом наречии становится почти необходимостью. Так как что это такое, собственно, как не ссора с дьяволом, перед тем как вы честно начинаете борьбу с ним? Ваш Байрон обнародует свои „страдания лорда Джорджа” в стихах и прозе и всяческими иными способами. Ваш Бонапарт ставит свою оперу „Страдания Наполеона” в изумительном стиле, с музыкой пушечных ядер и предсмертными криками мира; сцена освещается огнями большого пожара; его ритм и речитатив – это топот построенных в боевые порядки призраков и звуки разрушаемых городов».
Правда, тремя главами далее он дает резкий приказ: «Закрой Байрона, открой Гёте». Но Байрон был в его крови, тогда как Гёте остался стремлением.
Для Карлейля Байрон и Гёте были антитезами. Для Альфреда Мюссе они были соучастниками в черном деле отравления ядом меланхолии бодрой галльской души. Большинство молодых французов этого века знало Гёте, по-видимому, только по «Страданиям юного Вертера», а вовсе не как олимпийца. Мюссе порицал Байрона за то, что он не был утешен Адриатикой и графиней Гуццоли; неверно, так как после того, как он узнал ее, он не писал больше «Манфредов». Но «Дон Жуана» читали во Франции так же мало, как и более бодрую поэзию Гёте. Несмотря на Мюссе, большинство французских поэтов с тех пор находили байронические горести лучшим материалом для своих стихов.
Для Мюссе Байрон и Гёте были величайшими гениями столетия только после Наполеона. Родившись в 1810 году, Мюссе принадлежал к тому поколению, о людях которого в лирическом описании славы и бедствий империи он говорит, что они «были зачаты между двумя сражениями». В Германии чувства к Наполеону отличались друг от друга в большей степени. Были такие, кто, подобно Гейне, говорил о нем как о могущественном проповеднике либерализма, сокрушителе рабства, враге законности, человеке, который заставил трепетать наследственных князьков. Были и другие, которые говорили о нем как об антихристе, мнимом истребителе благородной германской нации, аморалисте, который убедился раз и навсегда, что тевтонская добродетель может быть сохранена только неугасимой ненавистью к Франции. Бисмарк осуществил синтез: Наполеон остался антихристом, но антихристу следует подражать, а не только питать к нему отвращение. Ницше, который принял компромисс, отметил с дьявольской радостью, что наступил классический век войны и что мы обязаны этой милостью не Французской революции, а Наполеону. И, таким образом, национализм, сатанизм и культ героя – наследство Байрона – стали частью сложной души Германии.
Байрон не мягок, а яростен, как буря. То, что он говорит о Руссо, применимо к нему самому:
Руссо – апостол скорби, обаянье
Вложивший в страсть, безумец, что обрек
Терзаниям себя, но из страданья
Власть красноречья дивного извлек.
Но существует глубокое различие между двумя этими людьми: Руссо патетичен, Байрон свиреп. Робость Руссо очевидна, у Байрона – скрыта. Руссо восхищается добродетелью, если она проста. Байрон восхищается грехом, если он стихиен. Различие, хотя оно и является лишь различием между двумя стадиями в бунте антиобщественных инстинктов, существенно и показывает направление, в котором происходит движение.
Романтизм Байрона, надо признать, был лишь наполовину искренен. Временами он мог сказать, что поэзия Попа лучше, чем его собственная, но это суждение было, вероятно, мыслью, приходящей лишь под влиянием определенного настроения. Мир настоял на его упрощении и на устранении элементов позы в его космическом отчаянии и открытом неуважении к человечеству. Подобно многим другим выдающимся людям, он был более важен как миф, чем как реальный человек. Его значение как мифа, на континенте особенно, было огромно.
Глава XXIV. ШОПЕНГАУЭР
Шопенгауэр (1788—1860) во многих отношениях занимает особое место среди философов. Он пессимист, тогда как почти все другие в каком-то отношении оптимисты. Он не полностью академичен, как Кант или Гегель, но и не полностью отрешился от академических традиций. Он отрицает христианство, предпочитая ему религии Индии: индуизм и буддизм. Он человек большой культуры и почти так же интересуется искусством, как и этикой. Он необычно свободен от национализма и столь же хорошо знаком с английскими писателями, как и с писателями своей страны. В поисках философии, которой можно было бы верить, он всегда обращался к профессиональным философам меньше, чем к деятелям искусства и литературы. Он начал придавать особое значение воле, что характерно для многих философов XIX-XX веков. Но для него воля, хотя и является метафизически основным принципом, с точки зрения этики – зло; такой контраст возможен только у пессимиста. Он признает три источника своей философии: Канта, Платона и Упанишады, однако я не думаю, чтобы он был так многим обязан Платону, как он сам считает. Его мировоззрение по своему темпераменту имеет сходство с мировоззрением эллинистической эпохи. Усталое и болезненное, оно ценит мир больше, чем победу, квиетизм – больше, чем попытки реформ, которые Шопенгауэр считал неизбежно тщетными.