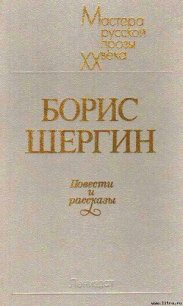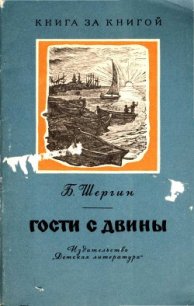Поморские были и сказания - Шергин Борис Викторович (серия книг TXT) 📗
Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:
Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — всё поет.
Отец у нас всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:
— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!
— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.
— Я сама нашью, модных.
Сестрица шить любила: ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.
Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:
Он поживет с нами немножко и в море сторонится.
Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение. Машины я любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.
Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака и об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит на угор, смотрит к северу; на ответ только чайки вопят к непогоде.
Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:
— Ох, деточки, что на море-то делается! Папа у нас там!..
Я утешаю:
— Мамушка, я, как вырасту, дальше Соломбалы не пойду в море.
А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.
Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.
Хозяйка ободряет:
— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно * домой ждите.
Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.
В листопад придут в город кемские* поморы, покроют реку кораблями.
Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.
Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас всё прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом, шутя, и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет».
Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:
— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком…
Ребячьим делом я не раз впросак попадал из-за этих несчастных прозвищ.
Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.
На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы, вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:
— Варгас, постой-ко, постой!
Он лошадь остановил, ждет, недоумевает…
Я выбежал за ворота.
— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошусь, сам Еленку-то приду сватать.
А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще…
Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпустим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками — где нога, где окутка, где пеленка… Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.
Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульяниной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты странников убивать. А чуть приви-дится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится:
— Я маленька, меня скоро съедят буки-ти!
По Уйме-реке лес. Там какой-то «орды»* боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.
Ягоды поспеют — отправимся в тундру по морошку. Людно малых идет.
Вдали увидим пень, сажени полторы, как мужик в тулупе:
— Ребята, эвон де орда-та!
Испугаемся, домой полетим. А орда вся-та с белку, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.
Конец зимы, уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трех — шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — «смотренье, рукобитье, пониманье». Девчонки у матерей с кринок сливок наснимают, ходят, кланяются, угощают — честь честью, как на свадьбе…
Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что позже творилось, сам номню.
Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.
Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят* кричать:
— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..
Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.
Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.
Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.
В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная.
Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк…
Для памяти я и декламирую:
И другие стишки про буквы:
Азбуку мне отец подарил к Новому, 1902 году, поэтому вначале было написано стихами:
Отец, бывало, скажет:
— Выучишься — ума прибудет.