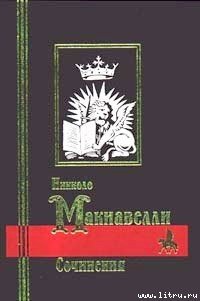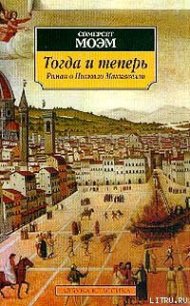Сочинения великих итальянцев XVI века - Макиавелли Никколо (читать хорошую книгу полностью .TXT, .FB2) 📗
XVIII
Но провозгласив любовь богом Амуром по тем причинам, какие я назвал, люди, Лиза, сочли нужным дать ему некую наружность, дабы познать его более полно. Нагим изображают его затем, чтобы показать что влюбленному ничего не принадлежит, хотя сам он всецело принадлежит возлюбленной, и что влюбленный совлек с себя всякую свободную волю, всякий покров разума. Ребенком изображают его не затем, однако, чтобы показать его младенцем, ибо он появился на свет вместе с первыми людьми, но затем, чтобы дать понять, что своих подданных он превращает в несмышленышей или, точно новая Медея, неведомыми эликсирами омолаживает престарелых и седовласых. Крылатым изображают его не по чему иному, как потому, что любящие, окрыленные глупыми своими желаниями, возносятся по воздуху своих надежд, как им мнится, в самые небеса. В руку ему влагают зажженный факел, ибо, подобно огню, что прельщает нас блеском, но вблизи больно обжигает, любовь, при своем появлении радующая нас как нечто приятное, после, как узнаешь ее на опыте, мучает несказанно. О, знать бы то раньше, прежде чем зажечься любовью, разве столь широко простиралась бы теперь власть этого тирана и разве столь многочисленна была бы толпа влюбленных? Но мы сами, возлюбив погибельный огонь, притягиваемся к нему, точно мотыльки, и более того, сами порой его разжигаем, а после в нем гибнем, подобно Периллу, погибшему внутри изваянного им тельца. Чтобы докончить образ бога Амура, люди, и без того разукрасившие его всеми красками своих горестей, изобразили его с луком и стрелами, разумея, что раны, наносимые Амуром, не уступают ранам от стрелы, пущенной ловким лучником. И эти раны тем более опасны, что Амур метит только в сердце, и тем более грозны, что он, разящий без устали и без жалости и тогда, когда видит нас обессилевшими, спешит нанести рану в тот именно миг, когда человек изнемог и ослаб. Теперь, Лиза, ты воочию видишь, по каким причинам люди нарекли богом силу, называемую любовью, и почему они изображают ее в описанном виде. Но если взглянуть на дело прямо, то любовь не только не божество, что кощунственно было бы помыслить и нелепо предположить, но и более того, она есть не что иное, как порождение наших собственных желаний. Да, поневоле приходится заключить, что любовь возникает из наших хотений, без каковых она, точно растение без почвы, никогда не может зародиться. Верно и то, что стоит нам, приняв ее в себя, дать ей место в душе и позволить укорениться, как затем она сама набирает силу, так, что после остается там уже против нашей воли, многими острыми шипами терзая наше сердце и творя новые дива, как хорошо знают те, кто ее изведал.
Так как я прошел уже немалый путь, говоря с тобой, Лиза, то мне пора вернуться к Джизмондо, которого я покинул, отозвавшись на твой призыв: ведь он еще в самом начале нашего пути вопросил, возможно ли, чтобы не существовало любви без лютой горечи. Сколь бы то ни было очевидно из приведенных доводов всякому, кто не морочит себя софизмами, все же я об этом скажу еще, как потому, что хочу быть более полезным вам, ибо вы, будучи дамами, меньше нашего искушены жизнью и больше нуждаетесь в совете, так и потому, что мне, страдальцу, облегчает душу повествование о моих невзгодах, как оно обыкновенно случается с теми, кто несчастен. Так собеседуя, я, может быть, вами буду весьма одолжен и вас одолжу советом, вооружая неопытность против опасностей, которые могут оказаться причиною великих несчастий. — Сказав так, Пероттино умолк, приготовляясь продолжать, но тут Джизмондо, взглянув на удлинившиеся тени, обратился к дамам: — Милые дамы, я всегда слышал, что, чем сильнее соперник, тем более чести в победе. Посему, чем более Пероттино подкрепляет свои соображения доводами, чем долее утруждает себя речью и изощряется, отстаивая неправое дело, тем более пышный и прекрасный венок сплетает он для увенчания моего чела. Но боюсь, что когда наступит мой черед отвечать, то мне уже не достанет на то времени, ежели мы хотим по обыкновению оказаться вместе с другими на празднестве к урочному часу. Ведь солнце клонится долу, и нам навряд ли отпущено столько же времени на пребывание здесь, сколько уже протекло; хотя оно бежит столь незаметно, а изящная речь Пероттино столь захватывающа, что мне, право, кажется, будто мы лишь недавно сюда явились. — На что Сабинетта, самая юная из дам, поначалу расположившаяся на мураве под лаврами, как бы в стороне от других, и не проронившая ни слова, пока говорил Пероттино, вдруг весьма задорно воскликнула: — Джизмондо, ежели ты разумеешь, что Пероттино должен сократить свои речи, то это было бы обидно. Пусть он говорит нынче сколько его душе угодно, а ты отвечай ему завтра, ибо нам и после будет приятно занять себя тем же развлечением и в том же месте, раз нам предстоит пробыть в Азоло не один день, да и тебе сподручнее отвечать ему после того, как у тебя будет время подумать.
Все одобрили предложение Сабинетты и порешили так и сделать, то есть на другой день вернуться на то же место, после чего восстановилось молчание, и Пероттино продолжил: — Как стройные корабли, утомившись, отдыхают в гавани, а преследуемые охотником звери — в чаще, так споры утихают при обретении истины. Если же таковую не удалось обрести, то сколько ни складывай и не переставляй звучные и важные слова, чему с особым рвением предаются те, кто далек от истины, ими не проймешь слушателей, обращающих проницательный взор не на лицо слов, а в самую их душу и сердце. И я опасаюсь, о дамы, что такая участь ожидает завтра Джизмондо, который, излишне полагаясь на собственный ум, не принимает в расчет вашего, к тому же слишком беспечен и беззаботен касательно отстаиваемого дела, в уверенности, что в сем поединке будет увенчан как победитель. Я мог бы почесть, что фортуна благосклонна к его надеждам, ибо отводит более времени ему на обдумывание ответа, чем мне на обдумывание моей речи, если бы не видел в нем врага истины. Но дабы он не вернул мне мой упрек, перейду скорее к предложенному им вопросу. Итак, каждый раз, как человеку не дается предмет его желаний, он делается жертвой страстей, отчего теряет покой, точно город, осажденный врагами: страсти непрерывно изнуряют его, больше или меньше, смотря по тому, сколь сильно томят его желания. Но обладать предметом желания это не то же, что обладать лошадьми или одеждой, или домом, чей господин называется обладателем все равно, пользуется ли он этим добром один или совместно с кем-то, постоянно или от разу до разу, так или не так, как ему желательно. Обладание в нашем случае должно быть только полным и только таким, какое желанно. Сказанное само собой очевидно, так что мне нет нужды приводить доводы. Но теперь пусть Джизмондо скажет, дано ли любящему иметь в полном обладании то, что он любит? Если ты, Джизмондо, считаешь, что дано, то ты в явном заблуждении, ибо человек не может вполне обладать тем, что не часть его самого, тем, что от него отчуждено и к тому же всегда зависимо от произвола фортуны и случая, а не от нашей воли; насколько же другой человек от нас отчужден, то ясно уже из самого слова «другой». А если ты считаешь, что нет, не дано, то тебе придется сознаться, о Джизмондо, не ожидая защиты от влюбленных, что тот, кто любит, претерпевает страсть во всякое время. Посему горечь души есть не что иное, как желчь отравляющих ее страстей, из чего следует, что любить без горечи невозможно, как невозможно, чтобы вода сушила, огонь мочил, снег жег, а солнце не дарило света. Теперь ты видишь, Джизмондо, в каких простых и кратких словах заключена чистейшая истина? Но зачем доказывать то, что можно осязать руками? Впрочем, что руками? — сердцем. Ведь кроме любви нет ничего, что доходило бы до самого сердца, проникало до мозга костей, поражая душу. Любовь же, точно мощный яд, посылает свою силу в сердце и, точно опытный грабитель на большой дороге, то и дело посягает на самую жизнь человека.
XXI
А теперь я оставлю в покое и силлогизмы и Джизмондо, кому, как их рыцарю, они предназначены в большей мере, чем вам, о дамы, как слушательницам наших споров, и вступлю с вами на другую стезю, рассуждая более непосредственно. На том основании, что горечь души мы познаем лучше, говоря о страстях, ибо душа извлекает из них горечь, точно из алоэ, я и стану толковать о страстях — памятуя, что вам угодно было предоставить мне сей день, ранее дарованный Джизмондо, — и продолжу тем самым начатый разговор, то есть из тех же нитей сотку полотнище подлиннее. Итак, о дамы, главные страсти души, из которых все прочие исходят и к которым возвращаются, суть таковы: чрезмерное желание, чрезмерная радость, чрезмерная боязнь будущих несчастий или чрезмерная скорбь по поводу настоящих. Страсти эти, точно грозные вихри, возмущают мир души и лишают покоя нашу жизнь, отчего они и наречены от писателей соответственным словом «возмущения». Любовь прямо связана лишь с первой из этих страстей, ибо любовь и есть не что иное, как желание; но, не довольствуясь своими владениями, она прокрадывается в чужие и так раздувает свой факел, что все кругом воспламеняет жестоким пламенем; пламя это, опаляя и сжигая наши души, нередко обрекает нас на погибель или если не на погибель, то на жизнь, которая хуже смерти. Говоря о сем чрезмерном желании, скажу, что оно есть начало и глава всех прочих страстей. Всякое зло происходит в нас от него точно так, как всякое дерево произрастает из своего корня. Отчего бы ни возгорелось желание, оно немедленно понуждает нас домогаться желаемого предмета, а когда мы принимаемся его домогаться, обрекает на чрезвычайные, из ряда вон выходящие опасности и ввергает в бездну несчастий. Именно желание заставляет брата искать объятий греховно любимой сестры, толкает мачеху к пасынку, а порой, что и выговорить тяжко, отца к его непорочной дочери — желания не просто дерзкие, но чудовищные. Однако, так как лучше о них умолчать, чем говорить, то, обходя их как неудобоназываемые вследствие неприличия и возвращаясь к прежнему, скажу, что, едва зародившись, желание начинает управлять всеми нашими помыслами, нашими делами, нашими днями и влечет нас к прискорбной и непредвидимой погибели. Бесполезно противиться ему разумом, ибо даже видя впереди бедствия, мы не умеем повернуть вспять, а если иной раз исхитримся, то после, снедаемые изнутри нашим недугом, вновь поспешаем назад, точно псы на свою блевотину. Как солнце, которое еще утром на восходе позволяло смотреть на себя в упор, а сейчас, в разгар дня, слепит всякого, кто на него воззрится, так и недуг наш: он дает созерцать себя, лишь когда он в зачатке, но стоит ему войти в силу, как он ослепляет в нас всякое разумение и смысл.