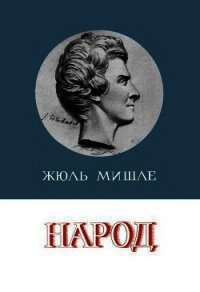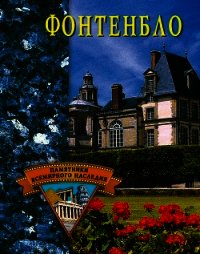Ведьма - Мишле Жюль (версия книг .txt) 📗
Когда теплой весной она чувствует, как отовсюду к ней несется откровение: из воздуха, из недр земли, от цветов и их лепета, у нее сначала кружится голова. Ее грудь грозит разорваться от избытка сил. Сивилла науки испытывает муки, как некогда другая сивилла – Кумейская, Дельфийская. Схоластику, конечно, ничего не стоит сказать: «То – аура, дьявольские пары, которые ее вздувают, и больше ничего. Ее любовник, князь воздуха, наполнил ее снами и ложью, ветром, паром, ничем».
Глупая ирония!
Истинной причиной ее опьянения является, напротив, не ничто, а – сама реальность, субстанция, слишком быстро собой наполнившая ее грудь.
Видали ли вы когда-нибудь агаву, это суровое, африканское растение, остроконечное, душу раздирающее, вместо листьев имеющее огромные стрелы? Оно любит и умирает каждые десять лет. Любовная энергия, накоплявшаяся так долго в этом грубом создании, вырывается в одно прекрасное утро с шумом выстрела навстречу небу. И энергия превращается в дерево, не менее тридцати футов вышины, унизанное печальными цветами.
Нечто подобное испытывает мрачная Сивилла, когда в одно запоздавшее и тем более бурное весеннее утро вокруг нее властно вырывается наружу жизнь.
И вся эта жизнь смотрит на нее и вся она для нее. Ибо каждое создание и каждое растение говорят ей неслышно: «Я принадлежу тому, кто понял меня». Какой контраст!
Она, супруга пустыни и отчаяния, питавшаяся ненавистью и жаждой мести, окружена заставляющими ее улыбаться невинными созданиями. Склоняясь под южным ветром, тихо кланяются ей деревья. Полевые травы, обладающие разными способностями, разным благоуханием, яды и лекарства (что чаще всего одно и то же) отдаются ей: «Сорви меня».
Все видимо исполнены любовью.
«Какая странная насмешка! Я готовилась принадлежать аду и не думала о таком своеобразном празднике. В самом ли деле дух, которого я знала, жестокий след которого, как горящую рану, я все еще ношу в себе, в самом ли деле он дух ужаса?
О нет! Это не тот дух, о котором я мечтала в припадках ярости, не тот, «что всегда отрицает». Нет, он принес мне любовь, опьянение, экстаз. Что с ним? Быть может, он безумная, испуганная душа жизни?
Везде, где она появляется, она – единственный предмет любви. Все следуют за нею и все ради нее отрекаются от собственного рода. Почему говорят только о черном козле, ее мнимом любимце? Все так относятся к ней. Приветствуя ее, ржет конь и мчится стремглав к ней, подвергая ее жизнь опасности. Когда она проходит мимо и исчезает, от горя ревет страшный царь лугов, черный бык. Птица покидает свою самку и, трепеща крыльями, спускается на нее в порыве любви.
То новое проявление деспотической власти господина, самым фантастическим образом превращающегося из царя мертвых в царя жизни. «Нет,– думает она,– оставь мне мою ненависть! Я ни о чем другом не просила. Пусть меня боятся, пусть буду я страшной. Подобная красота больше идет к моим черным змеиным волосам, к моему лицу, изборожденному скорбью и следами молний».
А царь зла тихо-тихо из-за угла нашептывает ей: «Как ты прекрасна, как ты чувствительна в твоем гневе! Кричи! Проклинай! Одна буря вызовет ответный гром другой. Незаметен и быстр переход от бешенства к сладострастию».
Она во власти чисто женского желания. Желания чего? Всего, всего универсума. Сатана не предвидел, что ее не удовлетворишь ни единым созданием. Что не смог сделать он, сделало нечто, название которого трудно сказать. Она падает под бременем этого огромного и глубокого желания, безбрежного, как море, и погружается в дремоту. В это мгновение она спит, забыв обо всем, о ненависти и мести, невинная против собственного желания, на лугу, как овца или голубка, тихим, радостным сном влюбленной.
Она спит и грезит.
Чудный сон! Как выразить его? Чудесное чудовище универсальной жизни вошло в нее и отныне все: жизнь и смерть в ней самой.
Ценою страданий она постигла природу.

Немая мрачная сцена коринфской невесты буквально возрождается в XIII и XV вв.
Еще продолжается ночь, еще не наступила заря, и оба любящих, человек и природа, вновь находят друг друга, горячо обнимаются и (о ужас!) видят вдруг, что по ним ударяют ужасные бичи. Кажется, точно слышишь, как возлюбленная говорит возлюбленному: «Свершилось! Завтра твои волосы поседеют. Я умерла. Умрешь и ты».
В три столетия – три страшных удара. Сначала отвратительная внешняя метаморфоза: болезни кожи, проказа. Затем внутренние недуги, странное нервное возбуждение, эпилептические пляски. Наконец, наступает успокоение, но кровь испорчена, изъязвления подготовляют сифилис, этот бич XV в.
Насколько теперь можно судить о средневековых болезнях, главнейшими из них были голод, бессилие и малокровие, этизия (исхудание), которая поражает нас на скульптурных произведениях эпохи. Кровь походила на воду. Золотушные болезни были, вероятно, общераспространенными. Если не считать арабских и еврейских врачей, дорого оплачиваемых королями, обыкновенно лечение происходило на церковной паперти, возле кропильницы.
В воскресенье после службы сюда приходили массами больные. Они просили помощи, а им говорили: «Вы грешили, и Бог наказал вас. Благодарите его. Тем меньше придется вам мучиться на том свете. Смиритесь, страдайте, умирайте! Церковь молится за усопших».
И больные, слабые, бессильные, не имея ни надежды, ни желания жить добросовестно, следовали этому совету и предоставляли жизни уходить из их тела.
Подобный роковой упадок духа, подобное жалкое состояние должны были до бесконечности продолжать этот оловянный век, задержать прогресс. Что может быть хуже такого быстрого смирения, такого послушного приятия смерти, что может быть хуже, как ничего не мочь и ничего не желать.
Куда выше была новая эпоха, конец средних веков, давший нам ценою острых мук первое средство вернуться к активности – возрождение желаний.
Некоторые арабские писатели утверждают, что огромное распространение кожных заболеваний в XIII в. было вызвано употреблением возбуждающих средств, которыми тогда пытались оживить, пробудить ослабевшую эротическую способность. Острые пряности, привезенные с востока, несомненно, сыграли тут некоторую роль. Возможно, что не без влияния было и зарождавшееся тогда винокурение, разные хмельные напитки.
Однако имелось тогда налицо и более общее, серьезное брожение. В острую внутреннюю борьбу двух миров, двух духов, вмешался неожиданно третий и заставил их обоих умолкнуть.
Между тем, как боролась угасавшая вера с расправлявшим свои крылья разумом, некто третий завладел человеком. Кто? Нечистый, бешеный дух едких желаний с их жестоким кипением.
Не имея возможности проявиться ни в физических наслаждениях, ни в свободной игре ума, жизненные соки задерживались в своем течении и портились. Лишенные света, голоса, слова, они обнаруживались лишь в болях, в зловещих сыпях. В итоге новое, страшное явление: желания, никогда не удовлетворяемые, гибли под злым гнетом жестокой метаморфозы.
Любовь шла вперед, закрыв глаза, широко раскрыв объятия. Она отступает, содрогается. Но напрасно бегство: бешенство в крови не утихает, тело мучительно чешется, а еще более мучительно свирепствует внутри разжигаемый отчаянием огонь.
Какое средство придумала христианская Европа против этого двойного зла? Смерть, плен – и больше ничего. Когда горькое безбрачие, любовь без надежды, острое возбуждение страсти ввергают тебя в болезненное состояние, когда кровь твоя разлагается,– умиротворись или построй свою хижину в пустыне. И будешь ты жить со звонком в руке, дабы люди избегали тебя. «Ни единый человек не должен тебя видеть. Не надейся на утешение. Если ты подойдешь к нам, смерть тебе» [3].
3
Возникновение проказы было отнесено к крестовым походам, ее занесли будто из Азии. Это не верно. Сама Европа носила эту болезнь в себе. Война, объявленная средними веками плоти и чистоплотности, должна была принести свои плоды. Не одну святую восхваляли за то, что она никогда не мыла своих рук. Что же сказать об остальных смертных. Даже обнажить тело на мгновение считалось грехом. Светские люди добросовестно исполняют советы монахов. Это изысканное и утонченное общество, не признающее брака и, по-видимому, питающееся только поэзией, относится к этому невинному факту со странным предрассудком. Всякое очищение оно считает загрязнением. Баня в продолжение тысячи лет – вещь неизвестная. Вы можете быть уверены, что ни один из рыцарей, ни одна из эфирных красавиц, ни Парсифаль, ни Изольда никогда не умывались. Отсюда в XIII в. одна малопоэтическая подробность: в самые нежные моменты романа действующие лица чувствуют вдруг страшный зуд.