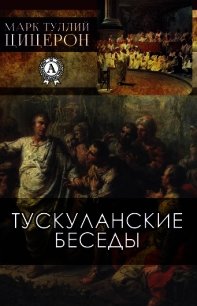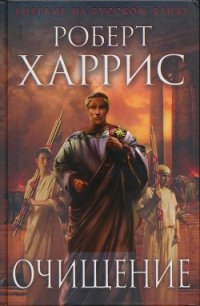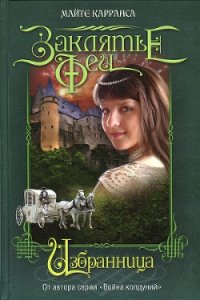Философские трактаты - Цицерон Марк Туллий (читаем книги онлайн без регистрации txt) 📗
Вторая книга «О природе богов», написанная Цицероном, как мы уже сказали, в основном на материале сочинения Посидония, излагает принципы стоической теологии. Выразителем учения стоиков выступает Бальб. Он произносит очень длинную речь, в которой, по-видимому, в соответствии с темами первых четырех книг трактата Посидония раскрываются четыре вопроса: о существовании богов, их природе, их управлении миром, их заботе о человеке (II, 3).
Мы не будем останавливаться здесь на всем чрезвычайно насыщенном содержании речи Бальба, тем более что мы не ставим себе задачей анализировать философию стоиков. Нас здесь интересует ведь сам Цицерон и его собственная философия. Поэтому, как и ранее, заострим внимание лишь на том, что Цицерон особенно одобряет и что, судя по характеру речи, — не одобряет у стоиков и, конечно же, на том, что в этой речи принадлежит его самостоятельной мысли.
Вначале заметим, что почти все так называемые доказательства существования бога, использованные позднее христианскими философами и теологами, содержатся во второй книге цицероновского сочинения «О природе богов». Здесь и доказательство от иерархии совершенств (II, 32—39), и от космической красоты и гармонии (II, 4, 14, 19, 54—56) и аргумент от целесообразности творений природы (II, 13, 14, 37, 85). Но это — аргументы не Цицерона, как считали многие в средние века и даже в Новое время, а стоиков. Нет достаточных оснований считать, что Цицерон верил в силу этих аргументов, за исключением разве что второго. В третьей книге трактата он устами Котты будет критиковать, и притом весьма убедительно, и стоическую теорию совершенств, и теологию. Другие, специально стоические аргументы в пользу существования божественного провидения он и вовсе отвергнет. Пожалуй, только два довода из речи Бальба Цицерон признает правдоподобными: первый — стоический, апеллирующий к космической гармонии; второй — римский и собственно цицероновский, состоящий в том, что величие римского государства было создано теми, кто исполнял обряды религии отцов (II, 8).
По вопросу о природе и свойствах богов Цицерон, несомненно, солидарен со стоической критикой антропоморфизма. Слишком вдохновенна и неподдельна речь Бальба в этой части (II, 59—72), чтобы не увидеть за ней мысли самого Цицерона. Он соучаствует в рассуждении Бальба о происхождении языческого политеизма. Вместе с ним он рассматривает политеизм как олицетворение и обожествление природных сил и человеческих потребностей (II, 59—69). Принимает он отчасти и стоический метод герменевтики, а к греческим аллегориям и этимологиям добавляет множество своих, латинских. Всю поэтическую мифологию, он, как и стоики, толкует либо как аллегорию, либо как «бабьи сказки и суеверия» (II, 70). Самому Цицерону принадлежит, по-видимому, вводимое в этой части понятийное различение «религии» (religio) и «суеверия» (superstitio), хотя, что касается предлагаемой им этимологии этих терминов, уже Лактанций [18] отмечал ее искусственность. Религия, согласно Бальбу — Цицерону, есть разумное и просвещенное почитание богов; суеверие неразумное и непросвещенное (II, 72). Это определение можно было бы, учитывая все известное нам о Цицероне, переформулировать так: истинная религия — это вера в разумность мирового порядка и уважение к государственному богослужению. Все остальное, выдаваемое за религию, — чистейшее суеверие.
Вопросу о разумности и целесообразности мирового порядка уделена третья часть речи Бальба. Она особенно нравилась христианам (Минуций Феликс, Лактанций, Августин и др.), так как в ней мир прославлялся как порождение единого разумного начала и, хотя Бальб нигде не называет это начало сверхприродным, создавалось впечатление, что он защищает монотеистическое воззрение. Исключительно сильны и эстетически совершенны применяемые здесь аналогии (особенно II, 82, 87, 88). Невероятно богат и многообразен привлекаемый для подтверждения тезиса материал: данные астрономии, географии, математики, биологии, антропологии, анатомии, примеры из сферы искусства, ссылки на красноречие и право, философов и поэтов. Невольно подумаешь, что Цицерону этот тезис был особенно близок и дорог и что не стоик Бальб, а сам Цицерон отстаивает его. Но Бальб собирался отстаивать тезис, что миром правит божественное провидение, а Цицерон заставил его защищать несколько иной тезис: что мир сам по себе прекрасен и разумен и что он наилучший из всех возможных (II, 87). Цицерон нигде не говорит об искусстве богов в природе, но говорит об искусстве самой природы (sollertia naturae) — искусстве, все производящем, объединяющем, организующем, украшающем. Цицерон нигде не выставляет идею божественного промысла — он убеждает только в том, что в природе нет ничего пустого, заброшенного, напрасного, в ней правит не слепой случай, а закон, и этот закон сродни человеческому разуму. Видно, что Цицерон, как, вероятно, и служащий ему примером Посидоний, относится к миру сразу и как ученый и как художник. Недаром он заставляет Бальба постоянно цитировать своих любимых поэтов, прежде всего Энния, а для иллюстрации красоты космоса заставляет его процитировать свой юношеский перевод Арата. Если в основе второй книги «О природе богов» и лежит упомянутое сочинение Посидония, все же в цицероновском тексте иные акценты и во многом иное содержание. Расхождения Цицерона со стоиками особенно заметны в последней, четвертой части речи Бальба, где рассматривается вопрос о божественной опеке людей (II, 155—167).
Переходя к этой части, Бальб — Цицерон как бы снижает тон. Аргументация становится поспешной и малоубедительной. Порой даже проскальзывает ирония над собственными доводами (II, 158—160). Но окончательно Цицерон отмежевывается от стоической концепции провидения, когда заставляет Бальба признать самым сильным доводом в ее пользу тот аргумент, который самому Цицерону представляется самым слабым, — существование дивинации (II, 162). Таким образом, Цицерон дает понять, что все предыдущие рассуждения Бальба он считает справедливыми только в той мере, в какой они относятся к миру, а не к божественному провидению. Впрочем, такой итог находится в явном противоречии с теми стараниями, которые Бальб — Цицерон приложил раньше для доказательства того, что миром управляет имманентное разумное начало. Ведь признавая это начало, Цицерон должен был бы признать и провидение, так как у стоиков это «главенствующее» начало («гегемоникон») и есть провидение. Но Цицерон знал, что в понятие провидения стоики включают еще и нечто другое, связанное у них с дивинацией и фатализмом, а это он относил уже к разряду суеверий и принять не мог.
Как бы там ни было, вторая книга «О природе богов» — лучшая часть этого произведения Цицерона. Она дает нам массу уникальных сведений из античного естествознания и натурфилософии, рисует великолепную и полную оптимизма картину мира, содержит ряд блестящих научных догадок и предвосхищений. Прекрасны, например, мысли Цицерона о том, что человеческий труд украшает Землю (II, 99), о том, что из животного мира человек выделился благодаря прямохождению (II, 140) и своим рукам, приспособленным к любому труду (II, 150—151), что этими своими руками мы создаем «в природе как бы вторую природу» (II, 152), что для своего счастья человек имеет в природе все необходимое, кроме бессмертия, но что бессмертие «не имеет к счастью никакого отношения» (II, 153). Все эти мысли, кем бы первым они ни были высказаны, принадлежат Цицерону, ибо именно они выражают самую суть его общего мировоззрения.
Третья книга трактата содержит речь Котты против теологии стоиков. Эта речь дошла до нас с большими сокращениями (незначительные сокращения, возможно, были и во второй книге). Поскольку лакуны приходятся на те места, где Котта должен был бы опровергать концепции, близкие монотеизму, можно предположить, что сокращения были произведены христианскими переписчиками.
В третьей книге Цицерон окончательно определяет свое отношение к религии, которое он схематически обозначил во вступлении и несколько уточнил в книге первой. Словами Котты он говорит о том, что для него мнение предков о почитании богов неколебимо (III, 5) и что в вопросах религии авторитетами для него являются не стоики, а великие римские граждане: Сципион, Сцевола и Лелий — автор знаменитой речи о религии (Там же). Все, что составляет религию, по его мнению, сводится к традиционной обрядности, ауспициям и прорицаниям, остальное же — домыслы поэтов и философов. Толкование религии не имеет смысла, ибо оно очевидные вещи делает сомнительными. Это относится и к доказательствам существования богов: «доказательствами очевидность ослабляется» (III, 9).