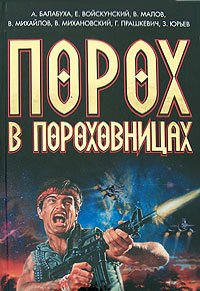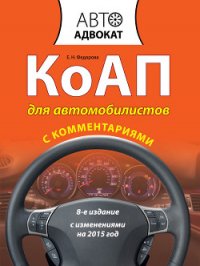Философский словарь - Конт-Спонвиль Андре (книги читать бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
Желание (Désir)
Потенциальная способность наслаждаться или действовать. Не следует смешивать желание с нуждой, которая отнюдь не является крахом, пределом или неосуществимостью желания. Желание как таковое не нуждается ни в чем (нужду вызывает не способность, а неспособность к чему-либо). Разве для того, чтобы проголодаться, обязательно испытывать нужду, т. е. невозможность получить пропитание? Это означало бы смешение голода, который представляет собой страдание, и аппетита, который является силой и одновременно удовольствием. Разве для любовного желания обязательно длительное воздержание? Это означало бы смешение фрустрации, т. е. несчастья, и потенции к любви, т. е. счастья и везения. Вопреки утверждению Платона, желание – не ощущение нехватки чего-либо («Пир», 200), но потенция – способность к наслаждению и потенциальное наслаждение. Его актуализацией является удовольствие; его судьбой – смерть. Желание – это живущая в каждом из нас движущая сила; наша способность существовать, как говорит Спиноза, чувствовать и действовать. Принцип удовольствия, если верить Фрейду, вытекает из его определения.
Как пишет Аристотель, к желанию относятся влечение, храбрость и воля. Следует добавить сюда же любовь и надежду. Действительно, как поясняется в трактате «О душе», желание (стремление) представляет собой нашу единую движущую силу: «Ум же, совершенно очевидно, не движет без стремления», тогда как желание «движет иногда вопреки размышлению» («О душе», книга II, глава 3 и книга III, глава 10). Впрочем, разве не очевидно, что нами движут любовь и надежда? Следовательно, движущее едино – это способность стремления как таковая, поскольку мы желаем быть своим «собственным движителем» (там же, книга III, глава 10).
Спиноза, определявший желание как «осознанное влечение» (из чего следует, что бывают и неосознанные влечения), подчеркивал недостаточность этого определения: «Будет ли человек сознавать свое влечение или нет, влечение остается все тем же» («Этика», часть III, теорема 9, схолия и «Определение аффектов», 1, Объяснение). Поэтому подлинное определение, в равной мере относящееся и к желанию, и к влечению, будет звучать следующим образом: «Желание есть самая сущность человека, поскольку она представляется определенной к какому-либо действию каким-либо данным ее состоянием» (там же). Это воплощенная в человеке форма conatus’a (стремления к самосохранению), а тем самым – принцип всяких его усилий, побуждений, влечений и хотений, которые «бывают различны сообразно с различными состояниями человека и нередко до того противоположны друг другу, что человек влечется в разные стороны и не знает, куда обратиться» (там же). Спиноза также понимает желание как единственную движущую силу – это та сила, которую мы являем собой или результатом которой являемся, которая пронизывает, составляет и одухотворяет нас. Желание – не акциденция и не одна из наших способностей. Это само наше бытие, рассматриваемое в его «способности к действию», иначе говоря, «в силе его существования» (agendi potentia sive existendi vis; часть III, Общее определение аффектов). Что из этого вытекает? Что стремление к уничтожению желания абсурдно или смертоносно. Мы можем лишь трансформировать, направлять, а иногда – сублимировать свое желание, и именно такую цель преследует воспитание. Такова же, в частности, и задача этики. Речь идет о том, чтобы чуть меньше желать того, чего нет, или того, что от нас не зависит, и немного больше – того, что есть, или того, что зависит от нас, иными словами, чуть меньше надеяться и чуть больше любить и действовать. Этот путь ведет к освобождению желания от угрожающего ему небытия и к возможности раскрытия реальной действительности, частью которой оно является.
Женственность (Féminité)
Было это в 1970-е годы, на улице Ульм. Я стоял в одном из коридоров университета «Эколь Нормаль» и болтал с приятелем. Вдруг к нам подошли три молоденькие женщины – в сапогах, каскетках, с сигаретой в зубах, и весьма надменно спросили: «Где тут у них сортир?» Судя по всему, они прибыли на мотоциклах, против чего я, впрочем, ничего не имею. Само собой разумеется, они имели полное право курить и произносить грубые слова. Но выглядели они ужасно мужиковато, в худшем смысле этого слова – никакой мягкости, никакого изящества, никакой поэзии. Вот исходя из этого, по принципу от противного, я бы и определил женственность. Ясно, что это не сущность и не абсолют (сколь ни мало женственности демонстрировали три мотоциклистки, они не переставали оставаться женщинами), но определенное количество черт или признаков, которые чаще всего присущи женщинам и без которых человечество оказалось бы сведено к одной только мужественности с ее грубостью и тяжеловесностью, с ее прозаическим подходом к жизни и ее амбициями – к тому, что Рильке называл «тщеславием и нетерпением самца».
Оба понятия – женственность и мужественность – могут быть определены лишь посредством друг друга. Именно это делает их относительными и лишает самодостаточности, но не снимает необходимости определения. Фрейд на закате своих дней все еще задавался вопросом, чего же хотят женщины. Может быть, он лучше знал, чего хотят мужчины – хотя бы потому, что сам принадлежал к их числу, – власти, секса, денег, успеха, славы. Мне возразят, что и женщины далеко не равнодушны ко всем перечисленным вещам. Мне это известно. Но все-таки мне кажется, что они чаще, чем мужчины, проявляют стремление отдавать предпочтение некоторому числу целей, больше относящихся к частной жизни и человеческим чувствам, таким как слова, любовь, дети, счастье, стабильность, мир, жизнь… Конечно, не следует слишком доверяться этим категориям, чересчур масштабным и расплывчатым, тем более что, прибегая к ним, мы рискуем навязать каждому человеческому существу какую-то заранее назначенную роль, которой сам он для себя никогда бы не выбрал. Но можно ли совсем обойтись без них, если только мы не признаем, что за половым различием не стоит никакой другой реальности, кроме физиологической? Как-то раз мне случилось пошутить, что любовь – изобретение женщин, что, будь человечество целиком состоящим из мужчин, мысль о любви даже не пришла бы ему в голову, потому что ему вполне хватило бы секса и войны. Но, возвращаясь к серьезному разговору, скажем, что мужчины и женщины по-разному переживают взаимосвязь любви и сексуальности. Большинство мужчин ставят любовь на службу сексу, тогда как женщины, во всяком случае большинство из них, скорее готовы поставить секс на службу любви. Это всего лишь тенденция, и не исключено, что она носит характер не столько природный, сколько культурный. Тем не менее мне представляется, что она является частью нашего опыта. Благодаря ей существуют обольщение и супружество (ведь мы все, и мужчины и женщины, хотим одного и того же – любви и секса), хотя благодаря ей же в наших отношениях нередки определенные трудности и недоразумения.
Можно было бы высказать соображения того же рода по поводу грубости и мягкости, по поводу отношения к времени и к действию. Когда начинается война, достаточно нескольких недель, чтобы все пришло в упадок, и мужчины вполне успешно с этим справляются. После чего нужны годы и годы терпеливых усилий, чтобы жизнь снова вступила в свои права, и я не уверен, что нам бы это удавалось без женщин.
Впрочем, вернемся к нашим трем мотоциклисткам. В тот раз я, как мне кажется, впервые осознал, что женственность, в те годы совсем не модная, это ценность. Мне тогда было 20 лет. Я еще не читал Рильке («…не сомневаюсь, женщина всегда бывает более зрелой, и она куда ближе к человечности, чем мужчина…»), не читал Колетт (107), Симону Вейль, Этти Хилсам (108). Правда, среднее образование я получил в смешанном лицее, где учились и мальчики и девочки. После коммунальной школы, в те годы исключительно мужской, это показалось мне настоящим раем, как будто из солдатской казармы я попал в цивилизованное место… Но вместо слов «женщины» и «женственность» я говорил тогда «девчонки» и, конечно, ни за что на свете не осмелился бы даже попытаться дать им какое-то общее определение. В ту пору феминизм для всякого прогрессивно настроенного интеллектуала был чем-то совершенно очевидным. Феминизм, но не женственность. Многие, и мужчины и женщины, видели в ней нечто вроде последней ловушки, последней иллюзии, от которой во имя общности и Революции, а то и во имя самого феминизма следовало срочно избавиться. Глядя вслед удалявшимся мотоциклисткам, я подумал, что сделать это будет не так уж легко и что мы рискуем на этом скользком пути утратить что-то очень важное. Из-за девушек-мотоциклисток я не стал относиться к феминизму с меньшей симпатией. Из-за них я стал гораздо больше ценить женственность.