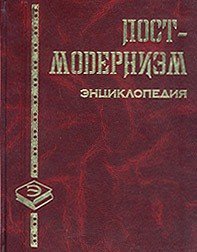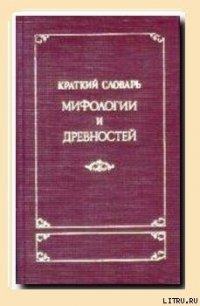Новейший философский словарь. Постмодернизм. - Грицанов Александр А. (серии книг читать бесплатно .txt) 📗
Сам Малларме неоднократно констатировал, что привык использовать поэтический язык так, как использует свой материал ремесленник. Сознавая это, Б. отметил: “Но язык также есть инкарнированное сознание, соблазненное возможностью приятия словесных форм, жизни слов, их звучания, ведя к вере, что эта реальность может каким-либо образом открыть путь, устремленный к темной сердце- вине вещей”
Как подчеркивал П. де Ман, “вера Малларме в прогрессивное развитие са- мо-сознания также должна быть оставлена, поскольку каждый новый шаг в этой прогрессии превращается в регрессию по отношению ко все более и более удаляющемуся прошлому Однако остается возможным продолжать говорить о некоем развитии, о движении становления, настаивающем на художественной выдуманности литературного изобретения. В чистом временном мире не может быть совершенного повторения, подобного полному совпадению двух точек в пространстве. Коль скоро Бланшо описал эту реверсивность, литература открыла себя, как временное движение, и вопрос, и его направления и интенции вновь попадают в поле спрашивания” Осмысливая этот духовный и литературно-критичес- кий поворот, Б. пишет: “Идеал книги Малларме, таким образом, косвенно нашел подтверждение в терминах движения изменения и развития, которые, вероятно, наиболее полно выражают его (идеала) смысл. Этот смысл и будет, собственно, движением по кругу” И еще: “Неизбежно мы всегда пишем опять и опять то же самое, и тем не менее развитие того, что остается тем же, обладает бесконечным богатством, заключающимся в самом повторении” По мысли де Мана, “Бланшо здесь невероятно близок к философскому направлению, пытающемуся переосмыслить положение о росте и развитии не в терминах органической природы, но герменевтически путем рефлексии темпоральности акта понимания” Продолжая комментарий хода мысли Б. П. де Ман подчеркивает: “Критика Бланшо, начавшаяся как онтологическая медитация, обращается вспять к вопросу временного Я. Для него, как и для Хайдеггера, Бытие открыто в акте само-сокровения, и как то полагает сознание, мы непременно схватываемы моментом распада и забывания. Критический акт интерпретации не в состоянии помочь нам увидеть, как поэтический язык всегда порождает негативное движение, зачастую вовсе того не осознавая. Так критика становится формой демистификации на онтологическом уровне, что подтверждает наличие фундаментальной дистанции в самом сердце человеческого опыта. В отличие от Хайдеггера Бланшо, похоже, не совсем верит в то, что движение поэтического сознания сможет когда-либо вывести нас к уровню утверждения онтологического прозрения в положительном смысле. Центр всегда остается сокрытым и вне постижения; мы отделены от него самой субстанцией времени, и мы никогда не прекратим знать, что это и есть причина. Кругоообразность, таким образом, не является совершенной формой, с которой мы пытаемся совпасть, но только вектор, управляющий мерой расстояния, отделяющего нас от центра вещей. Но мы не должны никоим образом считать эту кругообразность доказанной. Круг есть путь, который нам должно создать самим, и на котором мы должны попытаться остаться. Во всяком случае, кругообразность доказывает аутентичность нашего намерения. Поиски кругообразия управляют развитием сознания, являясь также ведущим принципом в образовании поэтической формы”
Исходя из собственного программного тезиса о том, что акт чтения “не оставляет вещам ничего, кроме того, что они есть” Б. констатирует, что писатель ищет возможность увидеть себя таким, каков он есть на самом деле. Что возможно лишь в “чтении” себя самого, обратив внимание сознания на самое себя, но совсем не в сторону никогда не постижимой формы бытия. Б., имея в виду Малларме, указывает: “Как может книга утвердить себя в согласованности с ритмом ее создания, если она не выходит за пределы самое себя?
Чтобы соотнестись с интимнейшим движением, определяющим ее структуру, она должна обнаружить себя вовне, что позволит ей соприкоснуться с этим самим расстоянием. Книга нуждается в посреднике. Акт чтения представляет такое опосредование. [...] Малларме сам должен был стать голосом такого сущностного чтения. Он был упразднен и исчез, как драматургический центр своей работы, произведения, тогда как это исчезновение дало ему возможность соприкоснуться с вновь-появлением и исчезновением сути Книги, с нескончаемым колебанием, которое и есть самая главная манифестация работы”
Как оценил такой подход Б. упоминавшийся П. де Ман, “подавление субъективного начала у Бланшо, выраженное в форме категорического отрицания само-чтения, является только подготовительным шагом для герменевтики Я. Он освобождает свое сознание от искусственного присутствия несущественных интересов. В аскезе деперсонализации он пытается создать литературное произведение не как некую вещь, а скорее, как автономную целостность, как сознание без субъекта. Предприятие не из легких. Бланшо должен устранить из собственной работы все элементы, порожденные повседневным опытом, все возможные совлечения с иными, материализующими тенденциями, уравнивающими произведение с природными объектами. Лишь только тогда, когда это чрезвычайное ощущение будет достигнуто, возможно будет обратиться к истинно временным измерениям текста. Эта перестановка полагает обращение к субъекту, что в свой черед никогда не перестанет быть настоящим. Примечательно также, что Бланшо приходит к такому заключению благодаря только таким авторам, как Малларме, подступавшему к подобному рубежу косвенными путями и чье подлинное намерение само нуждается в толковании, как путевой указатель-отражатель нуждается в источнике света, чтобы быть увиденным. Когда Бланшо занимается писателями, давшими более откровенные версии подобного процесса, он как бы полностью отказывает им в понимании. Такие открытые формы озарений он предпочитает сравнивать с другими несущественными вещами, позволяющими жить в этой жизни, например, с обществом, или же с тем, что именуется историей. Он предпочитает скрытую истину откровенному озарению. В своих критических работах этот теоретик интерпретации избирает скорее описание акта интерпретации, нежели истолкованное озарение. Последнее (во всех проявлениях) он оставляет для своей повествовательной прозы”
Б. полагал, что уделом человека после “конца истории” в постистории выступает своеобычная “жизнь после смерти” (аналогично идее Ф. Ницше о “смерти Бога” и “блужданиях последнего человека”). По мысли Б., “для всех нас в той или иной форме история приближается к своему концу (“к близкой развязке”). [...] Да, если крепко призадуматься, все мы в большей или меньшей степени живем в ожидании закончившейся истории, мы уже сидим на берегу реки, умирающей и возрождающейся, довольные довольством, которое должно было бы быть довольством универсума, а значит и Бога, довольные блаженством и знанием” Человек, тем не менее, согласно Б. довольным не оказывается; вместо предельной мудрости им постигается многомерное заблуждение. Люди не удовлетворены всем, в том числе и самой необходимостью быть и слыть удовлетворенными. (Описание этого явления так называемой литературой абсурда очертило нетрадиционное проблемное поле перед философией.) По Б. “мы предполагаем, что человек по сути своей является удовлетворенным; ему, этому универсальному человеку, нечего больше делать, он лишен потребностей, и даже если в индивидуальном плане он еще умирает, то, лишенный начала, конца, он пребывает в покое в процессе становления своей застывшей целостности. Опыт-ограничение это опыт, подстерегающий последнего человека, способного в конечном счете не останавливаться на постигающей его достаточности; этот опыт есть желание человека, лишенного желаний, неудовлетворенность удовлетворенного “всем” [...] Опыт-ограничение есть опыт того, что существует вне целого, когда целое исключает все существующее вне его, опыт того, чего еще нужно достичь, когда уже все достигнуто, того, что еще нужно познать, когда все познано даже недоступное, даже непознанное”
Задаваясь вопросом о своем отношении к миру, человек, по Б., обнаруживает неустойчивость своей позиции, когда онтологический статус и “укорененность” субъекта в бытии подвергаются сомнению вследствие смертной природы самого субъекта. Конечность, “дискретность” индивидуального сознания приводят к радикальному пересмотру возможностей разума при обнаружении его оснований в дорефлексив- ном и допонятийном поле бессознательного желания. Бытие “поверхности” для установления собственной “глубины” с необходимостью нуждается в диалоге с другим, в роли которого выступает Ничто смерть как абсолютно “иное” Субъект оказывается противопоставлен не просто негативности своего “зеркального отражения” но всему досубъектному, безличному, нечеловеческому, воплощенному у Б. в образе Сфинкса. Индивидуальное самосознание начинается, таким образом, с “опыта невозможного” (выявления и расширения собственных пределов, которые не совпадают с границами языковых норм, культурных традиций, социальных полей) и реализуется в трансгрессивной стратегии выхода за пределы социальности.