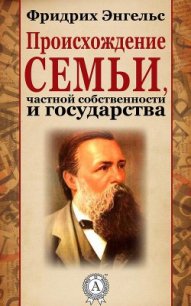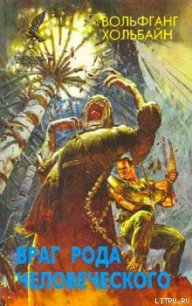Катастрофы сознания - Ревяко Татьяна Ивановна (читать книги онлайн регистрации TXT) 📗
Но опыт показал, что подводные лодки-носители практически не могли беспрепятственно доставлять «кайтен» к хорошо охраняемым американским стоянкам и базам. В связи с этим японцы изменили тактику использования человеко-торпед и стали нападать на корабли и суда противника в открытом море во время перехода. Однако из-за сильной противолодочной обороны действия «Кайтен», как правило, успеха не имели.
Пловцы-смертники
Японцы применяли также отряды пловцов-смертников. Первое их подразделение были создано в начале 1994 г. Отряды эти назывались «фукуруй» (драконы счастья). Снаряжение подводных смертников включало специальный костюм, ласты, дыхательный аппарат с двумя баллонами сжатого кислорода. Пузырьки использованного воздуха не бурлили в воде за пловцом, так как циркуляция воздуха была замкнутой, что обеспечивало скрытность передвижений подводного диверсанта. Тренированный пловец в таком снаряжении мог плыть на глубине до 60 м со скоростью 2 км в час. Задачей диверсантов-смертников было доставить к вражескому кораблю бомбу или другой заряд большой мощности. Пловцы транспортировали примитивные мины на обычной палке; чтобы тяжелые боеприпасы не тонули и не тянули на дно пловца, к ним стали привязывать надутый воздухом свиной пузырь.
Тактика была следующей: фукуруй подносил ко дну корабля и вспарывал свиной пузырь. Тяжесть бомбы тянула его вниз, он подплывал под судно и бил взрывателем по дну корабля. Большинство из фукуруй пропали бесследно; им так и не удалось потревожить океан страшными взрывами. Однако в ряде случаев фукуруй все же добивались своего; известны факты гибели или повреждения американских кораблей, которым не было найдено разумного объяснения в рамках обычных представлений о вооруженной борьбе на море. Уже после войны американские военные, исследовавшие японские документы, пришли к предположению, что странная гибель кораблей — дело рук японских боевых пловцов.
Часть III. Самоубийства знаменитых людей
Акутагава Рюноскэ
Акутагава Рюноскэ (1892–1927) можно назвать последним классиком новой японской литературы, понимая под этим литературу от последнего десятилетия XIX в. (от Фтабатэя) до начала второй мировой войны, то есть того рубежа, за которым началась литература современная.
Когда Акутагава не было и года, у его матери началось психическое заболевание, и ребенка, еще при жизни отца, усыновил его дядя, чью фамилию он и принял. Эта старая интеллигентная семья имела в числе своих предков писателей и ученых периода Эдо (эпох военно-феодальной диктатуры Токугава, XVII–XIX вв.) и хранила культурные традиции тех времен. В семье господствовало увлечение средневековой поэзией и старинными школами живописи, строго соблюдался старинный уклад, требовавший беспрекословного повиновения главе дома.
Жизнь Акутагава бедна внешними событиями. В 1916 г. он окончил отделение английской литературы и языка филологического факультета Токийского императорского университета, где его сокурсниками были будущие писатели Кумэ, Macao, Кикути Хироси (Кан), Ямамото Юдзо и другие. Из университета Акутагава вынес знание европейской литературы, которое он расширял и углублял до конца жизни, и дружеские связи, имевшие некоторое значение в первые годы его литературной жизни. Окончив университет, Акутагава в течение трех лет работал преподавателем английского языка в Морском механическом училище в городе Камакура. В 1919 г. он оставил службу и переехал в Токио. Недолго проработав в редакции газеты «Осака майнити», Акутагава всецело отдался писательской деятельности. Первые его рассказы были опубликованы еще в студенческие годы и привлекли внимание крупнейшего писателя тех лет, Нацумэ Сосэки. В последние годы жизни Нацумэ (он умер в 1916 г.) Акутагава сблизился с ним и находился под его сильным моральным и психологическим влиянием. Он быстро выдвинулся в литературном мире и оставался в первых рядах писателей до конца своей недолгой жизни.
Акутагава вступил в литературу в 1916 г… Акутагава сам сказал: «По моему мнению, девяностые годы XIX в. были временем высшего расцвета искусства. И я сложился как человек в художественной атмосфере этого десятилетия. Мне не легко было освободиться от этих влияний юношеских лет. И по мере моего роста я чувствовал это все острей». Вот в несоответствии всего комплекса идей и подхода к жизни, восходящих к искусству «конца века» — минувшего, и окружающей действительности начала века — нынешнего в остром осознании этого несоответствия и тщетных попытках преодолеть его и состоит трагедия Акутагава как человека и художника.
В самом начале литературной деятельности Акутагава совместно с писателями Кумэ и Кикути образовал группу, которая резко противопоставила себя натурализму и выступила глашатаем нового течения, подчеркивавшего ценность литературы прежде всего как искусства. В противовес бытописательству и нарочитой безыскусственности изложения, к чему стремилась натуралистическая литература, эта группа, именовавшая себя «Сингикоха» («Школа нового мастерства»), заявила права на литературную выдумку, на отчетливо выраженную фабулярность, требовала разнообразия и красочности материала, ценила яркость образа и выразительность языка. Все это нашло воплощение в творчестве Акутагава, которого можно назвать лучшим мастером сюжетной новеллы в японской литературе.
Акутагава начинал свою литературную деятельность под сильным влиянием эстетизма. Он сам вполне ясно сказал об этом в «Жизни идиота», хотя бы в первой ее миниатюре: «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера».
Через все творчество Акутагава проходит одна основная тема: моральный облик человека. В первые годы своей писательской деятельности Акутагава не ставит в своем творчестве социально-политических проблем, нет у него и ярких картин современного быта. Его интересует психология и взаимоотношения людей в плане нравственном. Именно поэтому он так легко переносил действие своих рассказов в условную старину.
Следует заметить, что не духовная жизнь конкретного человека, а чувство само по себе, психологический конфликт сам по себе является объектом творчества писателя, и такой психологизм носит несколько абстрактный характер. Японская критика отметила это, говоря об интеллектуализме творчества Акутагава. Надо, однако, подчеркнуть, что Акутагава не бесстрастен и тем более не исходит из нигилистического отрицания добра и зла, а наоборот — из высоких этических требований. Не цинизм, а скепсис и пессимизм характеризуют его отношение к человеку, скепсис, часто окрашенный душевной болью.
Но не только отрицание — скепсис — составляет окраску новелл Акутагава. Им владеет тоска по не существующей в действительности нравственной чистоте и высоким и цельным чувствам.
Именно в этой тоске, видимо, коренится его интерес к христианству. Мотивы христианства занимают в творчестве Акутагава заметное место. Его «христианские» рассказы неизменно представляют собой соединение иронии и восхищения — иронии, направленной на объективную сторону религии, и восхищения субъективным миром верующего. Всякую сверхчувственную реальность Акутагава всецело отрицал. «Мой материализм не мог не отвергнуть всякую мистику» («Зубчатые колеса»). Но сама по себе религиозность, сила веры и душевная ясность верующих на некоторое время представали перед ним как этически высокие и неподдельные чувства, составлявшие в его глазах подлинную духовную ценность.
В начале двадцатых годов характер творчества писателя несколько меняется.
Новые тенденции в творчестве Акутагава можно коротко характеризовать как отчетливое стремление вырваться из пут абстрактного психологизирования, стремление приблизиться к современности, показывать «живых людей, как они есть», не прибегая при этом к искусственной сюжетной напряженности, которая для рассказа о «сегодняшней, этой Японии», ощущалась им как нечто неестественное, «литературное, слишком литературное». После одного из своих полуфантастических-полуисторических рассказов «Дракон» Акутагава писал: «В искусстве нет застоя. Не идти вперед — это значит идти назад. Когда художник идет назад, всегда начинается известный процесс автоматизации, это означает, что как художник он стоит на краю смерти. И я, написав „Дракона“, явно подошел к порогу такой смерти» (заметки «Искусство и прочее»).