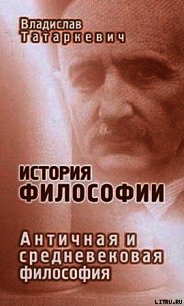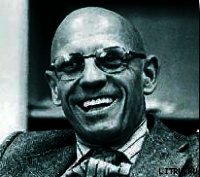Духовные упражнения и античная философия - Адо Пьер (полная версия книги .TXT) 📗
ральное очищение, способен к пониманию. И еще раз нужно прибегнуть именно к духовным упражнениям, чтобы познать не душу, но мышление Нб), и особенно Единое — начало всех вещей. В последнем случае Плотин делает четкое различие между «обучением», дающим внешнее описание своего предмета, и «дорогой», реально ведущей к конкретному познанию Блага: «Мы учим об этом, пользуясь аналогиями, отрицаниями и познанием вещей, присходящих от Него, и методом постепенного восхождения мы полагаем, что путь к Нему лежит через очищение, добродетели и космиза- цию [себя, то есть упорядочивание и украшение], через вступление в умопостигаемое, возлежание Там и горнее пиршество» 147). Многие страницы Плотин посвящает описанию таких духовных упражнений, которые имеют целью не только познание Блага, но отождествление с ним при полном расцвете индивидуального «я». Нужно избегать думать об определенной форме 148), отделить душу от всякой конкретной формы 149), отстраниться от всей вещей 150). Тогда молниеносно происходит метаморфоза «я»: «…видящий не видит и не судит, и не представляет двух, но он словно бы становится другим и больше не есть он сам и не принадлежит себе, но становится принадлежащим Ему и есть Единое, соприкасаясь с Ним как центр с центром» 151).
IV Научиться чтению
Мы кратко — слишком кратко — описали богатство и разнообразие практики духовных упражнений в античности. Мы смогли констатировать, что внешне они представляют определенное разнообразие: одни упражнения были всего лишь практиками, предназначенными для приобретения хороших моральных привычек (etbismoi Плутарха для сдерживания любопытства,
гнева или болтовни), другие упражнения требовали напряженной умственной концентрации (медитации, в частности, в платонической традиции), третьи обращали душу к космосу (созерцание природы во всех школах), и, наконец, четвертые, редкие и исключительные, приводят к преображению личности (опыты Плотина). Мы смогли также увидеть, что аффективная тональность и понятийное содержание этих упражнений весьма различны в зависимости от школ: мобилизация энергии и согласие с судьбой у стоиков, разрядка и отрешение у эпикурейцев, умственная концентрация и отказ от чувственного у платоников.
Однако при таком внешнем разнообразии имеется глубокое единство в употребляемых средствах и в поставленной цели. Применяемые средства представляют собой риторические и диалектические техники убеждения, попытки овладения внутренним языком, умственное сосредоточение. Цель, которую нужно достигнуть в этих упражнениях — и так для всех философских школ, — улучшение, осуществление самого себя. Все школы едины в допущении, что человек перед своим философским обращением находится в состоянии несчастливого беспокойства, что он — жертва заботы, он раздираем страстями, он не видит по-настоящему, не живет по-настоящему, он не является самим собой. Все школы также сходятся в мнениях, что человек может быть избавлен от этого состояния и прийти к настоящей жизни, улучшиться, преобразоваться, нацелиться на состояние совершенства. Духовные упражнения как раз и предназначены для такого самоформи- рования, для paideia, которое нас обучит жить не в соответствии с человеческими предрассудками и с социальными и общественными условностями (ибо общественная жизнь сама по себе является продуктом страстей), но в соответствии с природой человека, которая является не чем иным, как разумом. Все школы, каждая по-своему, таким образом верят в свободу воли, благодаря которой человек имеет возможность измениться сам, улучшиться, реализоваться. Параллель между физическим упражнением и духовным упражнением здесь очевидна: так же, как благодаря повторяемым телесным упражнениям спортсмен придает своему телу новую форму и силу, точно так же при помощи духовных упражнений философ развивает свою душевную силу, изменяет свою внутреннюю среду, преобразует свое видение мира и, в конечном счете, все свое бытие 152). Аналогия могла показаться тем более очевидной, что именно в гимнасии (gymnasion), то есть в том месте, где практиковались физические упражнения, также давались уроки философии, то есть происходила тренировка в духовной гимнастике 153).
Эту целенаправленность духовных упражнений, равно как и этот поиск самоосуществления, хорошо символизирует плотиновское выражение: «Вылеплять свою собственную статую» 154). Между тем, оно часто понимается неверно, ибо мы здесь легко можем вообразить себе, что это выражение соответствует некоторому роду морального эстетизма; что оно могло бы обозначать: принять позу, выбрать установку, сочинять себе персонаж. На самом деле, ничего подобного. Для древних скульптура была искусством, которое «отнимает», в противоположность живописи, которая является искусством «прибавляющим»: статуя предсуществует в глыбе мрамора, и достаточно убрать избыточное, чтобы заставить ее появиться 155). Такое представление является общим для всех философских школ: человек несчастен потому, что он есть раб страстей, то есть потому, что он желает вещи, которые могут ускользнуть от него, потому что они внешни, чужды, избыточны, поверхностны. Счастье, соответственно, заключается в независимости, свободе, самостоятельности, то есть в возврате к сущностному, к тому, что по-настоящему есть «мы сами», и к тому, что зависит от нас. Это недвусмысленно дает нам понять платонизм в знаменитом образе морского бога Главкона, живущего в глубинах моря: он неузнаваем, потому что покрыт тиной, водорослями, раковинами и камнями: точно так же обстоит дело с душой; тело для нее представляет собой род толстой и грубой корки, которая полностью обезображивает ее; настоящая природа души появилась бы, если бы она вышла из «моря», отбросив прочь от себя все, что ей чуждо 156). Духовное упражнение научения смерти, которое заключается в отделении от своего тела, своих желаний и страстей, очищает душу от всех избыточных примесей, и достаточно практиковать это упражнение, чтобы душа вернулась к своей настоящей природе и посвятила себя единственно упражнению чистой мысли. Это также верно и для стоицизма. Благодаря противопоставлению того, что не зависит от нас, и того, что зависит от нас, мы можем отбросить все, что нам чуждо, чтобы возвратиться к нашему настоящему «я» — моральной свободе. Наконец, это действительно и для эпикуреизма: отстраняя неестественные и не необходимые желания, мы возвращаемся к тому первоначальному ядру свободы и независимости, которое будет определяться удовлетворением естественных и необходимых желаний. То есть, всякое духовное упражнение фундаментально представляет собой возвращение к самому себе, которое освобождает «я» от того отчуждения, куда его увлекли заботы, страсти, желания. Освобожденное таким образом «я» не является больше нашей эгоистичной и страстной индивидуальностью, это наша моральная личность, открытая к универсальности и объективности, участвующая в универсальной природе или мысли.
Благодаря этим упражнениям мы должны были бы прийти к мудрости, то есть к состоянию полного освобождения от страстей, совершенной ясности разума, познания себя и мира. Этот идеал человеческого совершенства на самом деле служит у Платона, Аристотеля, эпикурейцев и стоиков для определения собственного состояния божественного совершенства, а значит, состояния, недоступного человеку 157). Мудрость действительно является идеалом, к которому мы стремимся, не надеясь его достичь, не считая, быть может, эпикуреизма 158). Единственным состоянием, обычно доступным для человека, является фило-софия, то есть любовь к мудрости, движение к мудрости 159). Духовные упражнения должны поэтому всегда повторяться во все время возобновляемом усилии.
Итак, философ живет в промежуточном состоянии: он не мудр, но он и не немудр. Он постоянно разрывается в жизнь нефилософскую и философскую, меж сферой обычного, повседневного, и сферой сознания и ясности разума 160). В той самой мере, в какой философская жизнь является практикой духовных упражнений, она представляет собой побег из повседневной жизни: она есть обращение, полная перемена видения, стиля жизни, поведения. У киников, самых истовых приверженцев ас- кезиса, такое обязательство оборачивалось полным разрывом с невежественным миром, аналогичным с монастырским затвором в христианстве; этот разрыв выражался в образе жизни и даже манере одеваться, совершенно чуждой нормальным людям. Вот почему иногда говорили, что кинизм был не философией в собственном смысле слова, а состоянием жизни (enstasis) 161). В действительности же, хотя и более умеренно, нежели киническая, всякая философская школа вовлекала своих последователей в иное состояние жизни. Практика духовных упражнений подразумевала полный переворот общепринятых ценностей; приверженцы отказывались от ложных ценностей — богатства, почестей, удовольствий, чтобы обратиться к настоящим ценностям — добродетели, созерцанию, простоте жизни, простому счастью существования. Такое радикальное противопоставление, разумеется, объясняло реакцию не-философов: от насмешек, следы которых мы можем найти у комедиографов, до открыто изъявляемой враждебности, которая могла привести к принудительной смерти Сократа.