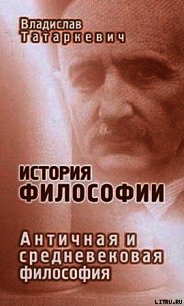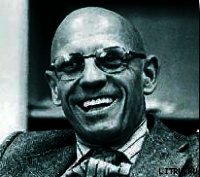Духовные упражнения и античная философия - Адо Пьер (полная версия книги .TXT) 📗
В этом аспекте философская речь больше не самоцель, она поставлена на службу философской жизни. Главная сущность философии состоит теперь не в речи, а в жизни, в действии. Вся античность признавала, что Сократ был философом больше своей жизнью и своей смертью, чем своими речами. И античная философия всегда оставалась сократической в той мере, в какой она
всегда представляла самое себя скорее как образ жизни, а не как теоретическую речь. Философ должен непременно быть не профессором или писателем, но человеком, сделавшим определенный жизненный выбор, принявшим для себя определенный стиль жизни, например, эпикурейский или стоический. Речь, наверное, играет важную роль в этой философской жизни; жизненный выбор выражается «в догматах», в описании определенного видения мира, и этот жизненный выбор остается живым, благодаря внутренней речи философа, который вспоминает в процессе этой речи фундаментальные догмы. Но речь эта неотделима от жизни и и действия.
Таким образом, для нас приоткрывается тип философии, отождествляемый в некотором роде с жизнью человека, осознающего самого себя, беспрестанно выправляющего свою речь и свои действия, чувствующего свою принадлежность к человечеству и к миру. В этом смысле знаменитая формула «философствовать — это значит учиться умирать» является одним из самых адекватных определений, которые когда-либо были даны философии. В перспективе смерти каждое мгновение предстанет, как чудесная и нечаянная удача, и каждый взгляд, устремленный на мир, даст нам такое впечатление, что мы видим его в первый, и может быть, в последний раз. Мы прочувствуем неизмеримую тайну возникновения мира. Признание этой в некотором роде священной характеристики жизни и существования приведет нас к пониманию нашей ответственности перед другими и перед самими собой. В таком осознании и в такой жизненной установке древние находили ясность рассудка, спокойствие души, внутреннюю свободу, любовь к другому, уверенность в своих действия. У некоторых философов XX века, например, Бергсона, Лавеля или Фуко, можно наблюдать определенное
стремление вернуться к этой античной концепции философии.
По всей вероятности, такая философия не может быть роскошью, поскольку она связана с самой жизнью. Она скорее будет элементарной потребностью человека. Вот почему такие философии, как эпикуреизм или стоицизм, провозглашали себя универсальными. Предлагая людям искусство жить как человеку, они обращались ко всем человеческим существам: рабам, женщинам, чужеземцам. Они были миссионерскими учениями, они стремились обратить массы.
Но тщетно. Ибо не нужно впадать в иллюзию: эта философия, задуманная как образ жизни, может по- прежнему быть только роскошью. Драматичность человеческого положения заключается именно в том, что невозможно не философствовать и, в то же время, невозможно философствовать. Человеку открыты благодаря философскому сознанию изобилие чудес космоса и земли, более острое восприятие, неисчерпаемое богатство коммуникации с другими людьми, с другими душами, приглашение действовать благожелательно и справедливо. Но заботы, принуждения, банальности повседневной жизни мешают ему прийти к этой жизни, в которой он осознает все свои возможности. Как же гармонично соединить повседневную жизнь и философское сознание? Это может быть только зыбкое и очень непрочное завоевание. «Все, что прекрасно, — говорит Спиноза в конце своей Этики, — столь же трудно, сколь редко». И как миллиарды людей, придавленные нищетой и страданием, могут достичь такого уровня сознания? И разве быть философом не значит тоже страдать от своей отделенности, от этой привилегии, этой роскоши, и ни на одно мгновение не забывать об этой драме человеческого положения?
Мои книги и исследования [18]
Напомню коротко о своей литературной или научной деятельности для тех слушателей, которые могут меня не знать.
Прежде всего, я сделал несколько изданий и переводов текстов античности: в i960 году теологические труды латинского христианского неоплатоника Мария Викторина; в 1977 году Апологию Давида (L’Apologie de David) Амвросия; в 1988 и 1990 году два трактата Плотина. Помимо этого, я написал некоторое количество книг, прежде всего, в 1963 году небольшую книгу под названием Плотин, или Простота взгляда (Plotin ou la simplicité du regard) [19], затем, в 1968, докторскую диссертацию, посвященную одному аспекту неоплатонизма — отношениям между Викторином, христианским теологом IV века, о котором я только что упоминал, и языческим философом IV века после P. X. Порфирием, учеником Плотина; потом, в 1981 году, работу, озаглавленную Духовные упражнения и античная философия (Exercices spirituels et philosophie antique), и в прошлом году книгу под названием Внутренняя цитадель (La Citadelle intérieure), посвященную Размышлениям Марка Аврелия. И если Философский колледж пригласил меня сегодня вечером, то это, несомненно, по причине двух последних работ, потому что в них выражена определенная концепция античной философии, а также обрисована определенная концепция философии вообще.
Чтобы выразить все это одним словом, в книгах мы находим идею, что философия должна определяться
как «духовное упражнение». Как я пришел к тому, чтобы придавать столько значения данному понятию? Я думаю, что это началось где-то в 1959–1960 году, когда познакомился с творчеством Витгенштейна. Свои размышления, на которые меня вдохновило знакомство, я опубликовал в «Журнале метафизики и морали» (Revue de méthaphysique et de morale) в статье Jeux de langage et philosophie (Языковые игры и философия), вышедшей в i960 году, где я писал: «Мы философствуем в языковой игре, то есть, если воспользоваться выражением Витгенштейна, в установке и в форме жизни, придающей смысл нашему слову». Возвращаясь к идее Витгенштейна, согласно которой нужно радикально порвать с идеей, что язык функционирует всегда од- ним-единственным образом и всегда с одной и той же целью — для выражения мысли, — я говорил, что нужно было также порвать с идеей, что философский язык функционирует единообразно. Философ действительно всегда находится в определенной языковой игре, то есть в форме жизни, в определенной установке, и невозможно дать верный смысл философским тезисам, не располагая их в языковой игре. Кроме того, главная функция философского языка заключается в том, чтобы поместить слушателей этой речи в определенную форму жизни, в определенный стиль жизни. Так появилось понятие духовного упражнения как усилия по изменению и преобразованию себя. Если меня волновал этот аспект философского языка, если я об этом думал, то потому, что, как и мои предшественники и современники, я столкнулся с одним хорошо известным феноменом, а именно: с феноменом несвязностей и даже противоречий, которые встречаются в трудах философских авторов античности. Мы знаем, что зачастую крайне трудно установить последовательность идей в античных философских сочинениях. Идет ли речь об Августине, Плотине, Аристотеле или Платоне, современные историки не перестают жаловаться на неловкости изложения, недостатки композиции, которые встречаются в их трудах. И вот, постепенно я стал замечать: чтобы объяснить этот феномен, нужно было всегда объяснять текст тем живым контекстом, в котором он родился, то есть конкретными условиями жизни философской школы в институциональном смысле слова, которая в античности никогда не ориентировалась на распространение теоретического и абстрактного знания, как наши современные университеты, но прежде всего — на формирование умов, на определенный метод, на умение говорить и умение дискутировать. Философские сочинения всегда были более или менее отголоском устного учения; и в любых обстоятельствах для философов античности фраза или слово, или развитие идеи в основном предназначались не для передачи информации, но для определенного психического воздействия на читателя или слушателя, причем — что само по себе очень педагогично — при учете способности слушателя. Пропозициональный элемент не был самым важным. Согласно превосходной формулировке В. Голдшмидта по поводу платонического диалога, можно сказать, что античная философская речь стремилась больше формировать, чем информировать.