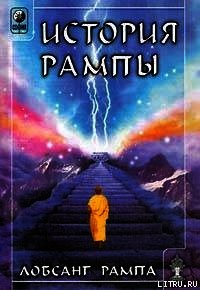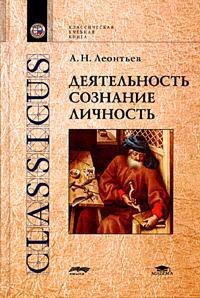О личности - Карсавин Лев Платонович (книги онлайн без регистрации полностью txt) 📗
Однако разъединенность представляется нам неодолимою. — Признавая себя бессильными воссоединиться, победить наше дурное умирание и воскресить умирающее, мы уже малодушно готовы совсем отказаться от умирающего и начинаем искать свое «единство», свою «подлинно единую» личность только в «сознающем я». Это — явная резиньяция и самокалечение, к тому же совершенно бесполезные. Ибо достаточно нам сосредоточиться в нашем сознающем «я», чтобы оно сейчас же снова раздвоилось на новое «я» и новое «познаваемое». Так наши поиски «единого я» оказываются процессом вечного убегания его от нас, дурною бесконечностью, в которой мы уже не видим и не ценим нашего самораскрытия. Но прежде, чем признать бесплодность всяких поисков и строить скороспелые гипотезы, надо же задать себе самый простой и естественный вопрос: так ли мы ищем, и то ли мы ищем, что нам нужно. Ведь мы хотим познать единство без разъединения, единство безразличное, не определимое, не познаваемое; ищем же его как самих себя (т. е. — как личное), хотя, делая его объектом искания, уже его себе противопоставили и первичною нашею познавательною установкою определили себя — как двоицу, а его и — как не себя. Так нам своего единства никогда не найти, ибо вполне естественно, что двоица двоицею и остается. Единства не будет, пока мы свою цель воссоединить разъятое будем насильственно отожествлять с результатом разъединения, как с разъединенностью. Но более того: безразличного и вместе конкретного единства и нет. Его нет вовсе не потому и не в том смысле, что здесь граница нашего знания, которое ведь есть качествование бытия и само наше бытие; но — потому, что бытие отнюдь не безразличное и безличное единство, не единство без саморазъединения, или самораспределения. Всякий раз, как мы обращаемся к нашей личности и в нашу личность, она добросовестно и правдиво являет нам и свою природу, как многоединство, и свое несовершенство; а мы все не хотим ей поверить и без толку гоняемся за безразличным единством, которого вообще нет. Оттого–то мы и попадаем во власть ошибочных представлений о духе, ложного спиритуализма и аскетического изуверства. Оттого и знание наше, определяемое установкою даже не на разъединение, а на результат его, как на уже данную разъединенность, превращается в призрачную, не бытийственную сферу.
Почему же все–таки мы ищем безразличное, небытное единство? почему ошибаемся? — Да потому, что наша личность — несовершенное многоединство, т. е. такое, в котором разъединенность–множество «сильнее» единства; потому, что личность наша умирает и бессильна целиком себя воскресить (воссоединить); потому, наконец, что мы наверно знаем: есть совершенное многоединство, которое, разъединяясь, всецело превозмогает свою разъединенность и, умирая, воскресает, есть наша совершенная личность, из коей мы только и познаем наше несовершенство.
В стремлении опознать наше «единство» мы взыскуем наше совершенство, в котором находится не только наше «начальное» единство, бывшее до разъединения, но и новое единство, преодолевающее разъединенность. Опознавая наше «единство», мы пытаемся его восстановить, воссоединиться, быть — как до разъединения, но и богаче, чем до разъединения. Однако взыскуем мы наше совершенство несовершенно. Во–первых, бытийственность воссоединения умалена: тем, что воссоединение только познавательно, т. е. совершается не во всех качествованиях бытия, а лишь в одном, познавательном его качествовании, которое притом всем прочим, как самому бытию, противополагается и приобретает призрачный, небытийственный характер. Во–вторых, только–познавательное воссоединение неизбежно является непреодолимою в нем разъединенностью личного бытия, т. е. двойством личности. В–третьих, и самоограничение только познавательным качествованием и признание заключающейся в этом непреодолимой разъединенности уже содержат в себе наш отказ от предносящейся нам задачи, т. е. от совершенного нашего многоединства. Естественно, что такой отказ находит себе конкретное выражение в том, что мы, в–четвертых, стремимся уже не к совершенному единству, которое есть многоединство, а к единству неполному, относительному. Мы отрекаемся от того, что в нас умирает, и надеемся ценою подобного самообеднения найти в себе хоть маленькую точку, котбрая бы не умирала. Мы ищем тихого уголка, куда бы могла забиться наша личность, где бы она не преодолевала своего несовершенства и не погибала; — ищем, не понимая, что тогда бы она и не раскрывала себя и не жила. Вместо борьбы с несовершенством мы пытаемся от него (от себя самих!) убежать и… пребываем в нем, обрекая себя на дурную бесконечность умирания. Мы сами себя ограничиваем; и одним из проявлений этого самоограничения и надо считать втискивание проблемы самопознания в тесные рамки самопознания теоретического, к тому же рассматриваемого в его стабилизованных результатах.
Между тем в актах своих, в активности своей личность более едина и осознает себя более единою, чем в стабильных результатах теоретического самопознания. Задним числом я без труда опознаю себя в моем прошлом акте, и во многих отношениях это «косвенное» самонаблюдение ценнее прямого. Я вижу, что «тогда» личность моя осуществляла себя, как некое гармоническое или симфоническое единство множества. Она не «была», разумеется, совершенным многоединством — своим «всеединством», но она «была» ближе к нему, объединеннее, чем в результатах теоретического самопознания. Например, излагая моим собеседникам новую теорию, я так был слит с нею, как с «объективным» самораскрытием мысли, что сознавал себя ею, а ее собою, или: — почти сознавал. Вместе с тем я «осязал» мысли моих собеседников, предвосхищая и преодолевая рождавшиеся в них сомнения как мои собственные. Я испытывал удовлетворение от нашего слияния в одном «объективном» потоке мысли, но и различал их, себя и его. Я «увлекался» моею инициативою, которую в то же самое время сознавал и как объективную активность самой мысли, властно нас всех ведшей. Я не боялся погружаться в тончайшие извивы и узоры мысли, т. е. не боялся моего разъединения в ней, ибо — сохранял или восстановлял свое единство и, во всяком случае, всегда чувствовал себя способным его восстановить. Несомненно, я сознавал себя, хотя и не замыкался в познавательном качествовании и не искал отвлеченно–единого «я».
Это «активное самопознание», акт самопознания, а не результаты его, не обусловлено специфическою установкою, свойственною теоретическому самопознанию (§ 3). И если я устраню присущие теоретической установке ошибки (направленность на стабильный результат, предвзятая идея безразличного единства), я должен буду признать, что она в известном отношении превосходит активное самопознание, что последнее беднее именно в качестве самопознания. Зато активное самопознание богаче теоретического в отношении конкретного единства. Ведь даже теперь, «вспоминая» себя–прошлого, я до некоторой степени «слит», един с собою–прошлым. Я не «замечаю», не сознаю, что я разъединен с ним, что я уже и не тот. И только отожествив себя–настоящего с моим «я», как со мною самим, и отожествив себя–прошлого — с «моим» этого «я», с «сознаваемым» этим «я» как его «свое», — я разъединяю мою личность и осознаю «отчужденность», «удаленность», «мертвенность» прошлого ее аспекта. Но здесь очевидно неосмотрительное смешение «я», как единства всей моей личности, с «я», как одним из аспектов ее, и — это засвидетельствовано, в частности, появлением понятия «я» (§ 3) — результат нового акта теоретического самопознания, акта, который отличен от теоретического самопознания, рассмотренного выше. В самом деле, этот новый акт теоретического самопознания относит к «моему», к — теперь — «сознаваемому» моим «я», не только «познаваемого» этим «я», если же и разделяет, то не непосредственно, а главным образом потому, что проецирует в прошлое и примышляет к нему выводы, полученные из размышления над результатами «прямого» теоретического самопознания. В то же самое время «новый» акт теоретического самопознания («косвенное» теоретическое самопознание) не отделяет «я прошлого» от «я настоящего» в той же степени, в какой прямое теоретическое самопознание отделяет «я» от «познаваемого» им.