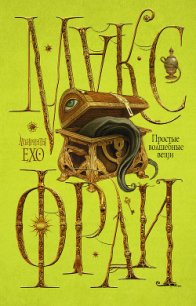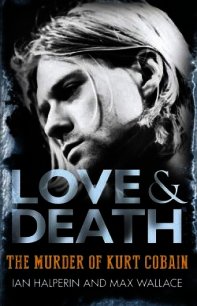НП-2 (2007 г.) - Гурин Максим Юрьевич "Макс Гурин (экс-Скворцов)" (мир бесплатных книг .txt) 📗
«…И вот я сделал доклад по физике и закончил его таким ярким выводом, начав со слова “ибо” – рассказывал мне как-то Игоряша на кухне нашего «материнского склепа» в бытность мою подростком, – и мне поставили “четыре”. Я спросил, почему “четыре”, и учительница сказала, что… за “ибо”».
Подросток-я, конечно же, на этом месте, как и было, вероятно, задумано, охуел от несправедливости, царящей в тоталитарном послевоенном совке J. Игоряша же, по всей видимости, с течением времени сделал из истории, приключившейся лично с ним, более глубокие выводы.
Другая же история, рассказанная им мне чуть раньше, ещё в гостиной их с тётей Светой хрущёвской «трёшки» в «Новых Черёмушках», на закате их тридцатилетнего брака, повествовала об их отношениях с его отцом, то есть моим дедом, писателем Арнольдом Борисовичем Одинцовым, и была такова:
– Отец после войны пил. Однажды он попросил меня налить ему на кухне рюмку водки доверху и принести в нашу комнату. «Если ты прольёшь хоть каплю, я дам тебе подзатыльник!» – сказал он. Я очень старался, но конечно разлил. И он действительно дал мне подзатыльник. Я это на всю жизнь запомнил.
Эту же историю, спустя чуть не двадцать лет, он снова рассказывал мне где-то в ноябре 2003-го года, когда мы с Да уже ждали Ксеню, а я работал у него в Центре оператором ПЭВМ. Мы сидели с ним в огромных чёрных кожаных креслах в вестибюле некоей крутой онкологической клиники, куда он направил мою мать удалять какую-то, к счастью, доброкачественную хуйню из груди, и ждали, пока ей закончат делать операцию. Тогда он, находясь в необычно элегическом настроении, и сказал мне, что всё-таки, пожалуй, нет, не любил отца, и, скорее всего, это было взаимно.
Мой дед, его отец, прошёл всю войну и, насколько я знаю, не был даже так, чтоб уж опасно ранен, несмотря на то, что отмотал свой срок в штрафроте, о чём потом написал очень неплохую повесть, каковую даже напечатали в одном из толстых журналов в годы хрущёвской оттепели – однако у меня она лежит в ящике стола (за которым я в своё время готовил уроки в школе) на нашем с Да балконе в виде машинописи средней бледности. Мне нравится эта повесть – врать не буду. Я нахожу там массу общего с собой в стиле и во многих других мелочах, незаметных постороннему глазу. Нет, так называемой инвективной, блядь, лексикой мой дед не баловался, но… сама по себе инвективная лексика – далеко не единственное, чем балуюсь, в свою очередь, я J.
Кроме прочего, машинопись «Роты» да пепельница, принадлежавшая некогда бойфренду моей бабушки (единственного человека, что всерьёз меня любил), какового бойфренда она завела себе после того, как мой дед, прожив с ней почти двадцать лет, всё-таки оставил её с тремя детьми, первым из которых является дядя Игоряша, второй – моя маменька, а третьей – та самая консерваторская пизда, моя тётушка – это единственное, что, в сущности, досталось мне в наследство от моей, так называемой, материнской семьи. Именно так: дедовская повесть в машинописи, пепельница любовника его жены, моей бабушки, да ещё, пожалуй, рыжая кошка Василиса, уродившаяся в подвале «материнского склепа» вскоре после смерти бабушки, когда мы с Да уже жили отдельно.
Просто как-то я пришёл в гости к маме – помнится, в старый Новый Год – и она в какой-то момент сказала: «Ой, а у нас там на лестнице такой хорошенький котёночек бегает! Пойдём посмотрим, съел ли он то, что я ему оставила!» Что-то в этом роде.
Котёночек действительно оказался очень мил. Прыгал через несколько ступенек и очень жизнестойко пищал. Я взял его на руки, перевернул на спину, и стало очевидно, что это баба. Однако, подержав это существо несколько секунд в руках, я как-то неожиданно для себя сразу почему-то озаботился его судьбой J.
Как раз в это время в моей материнской семье освободилась вакансия домашнего кота. У нас животные всегда жили парой собака-кошка – собака уже была – очень славный двортерьер Робби – приобретённый щенком под видом кавказской овчарки в переходе на Пушкинской, а вот кот Тристан (это я ему такое дурацкое имя придумал, когда учился в 9-м классе, начитавшись Томаса Манна J), прожив долгую кошачью жизнь, благополучно скончался минувшим тогда летом.
Я и говорю, мол: «А чего вы? Возьмите котёнка-то, раз он вам так нравится!» Но все мои многочисленные родственники, едва заслышав моё предложение, попрятались по своим комнатам (реальный Чуковский: а козявочки под лавочки J), и, короче, я немного поколебался ещё и со свойственной ранее мне хуйнёй «кто же, если не я!» забрал маленькую рыжую кошечку к нам с Да в наше тогдашнее Выхино.
Как только мои сородичи услыхали, что вроде как Максим забирает кота к себе, они, опять же все, из своих комнаток практически синхронно повылезли (как в театре, право слово! J) и принялись уже моего кота рассматривать, гладить и сюсюкающе его нахваливать. Да, помнится, подумал я ещё, действительно пиздец детки у тебя выросли, имея в виду многочисленные эпизоды последних месяцев бабушкиной жизни, когда она то и дело в буквальном смысле слова плакала из-за того, что, увы, и ей тоже не удалось воспитать своих детей нормальными, со своей точки зренья, людьми.
Ёбаный в рот и прочая мать япона, я охуительно умею пиздеть о том, как неоднозначно всё в мире; о том, что нет, в сущности, ни в какой ситуации правых и виноватых и прочий демократический бред, но… когда я вспоминаю последнюю бабушкину осень (она умерла в конце ноября), я вспоминаю отчего-то (ах, с чего бы это, право? J) не о том, как неоднозначно всё сущее, а как-то всё больше о том, как сучки-её дочери (моя мать, да консерваторская пизда моя тётушка) стремались стирать в общей машине её бельё (у неё был рак кожи), да и выносить за ней судно отчего-то, блядь, давалось им морально труднее, чем мне.
Короче, я положил кота в сумку и привёз его к Да. Василиса, так мы назвали её, всю дорогу спала. Я даже несколько раз заглядывал в сумку, чтоб удостовериться в том, что она не сдохла J. Нет, думал я, не может такой прыгучий кот сдохнуть; наверное просто намаялась в жизни подвальной J.
Мы её искупали. В мокром виде Васька, как справедливо подметила Да, действительно походила на сырую куриную ногу. Ещё через несколько дней Да сказала как бы в шутку, что, по её мнению, Василиса – это моя бабушка. Кто знает…
Через пару месяцев после этого нам всем троим пришлось вернуться на Малую Бронную, из которой все мы разъехались уже по своим новым квартирам. Мы с Да и Василисой жили в комнате моей бабушки. Василисе, как я уже говорил, было запрещено из этой комнаты выходить, потому что у всех моих родственников внезапно открылась «аллергия». В той же комнате стоял и Васин сортир системы «лоток» J.
Когда мы въезжали на Бронную, вышеупомянутый довольно крупный двортерьер Робби, увидев Василису стремительно и с визгом попятился и, в конце концов стукнувшись жопой о батарею, совершил какой-то феноменальный прыжок и убежал в другую комнату, где и спрятался под диваном. Ну и будет об этом.
«Наверное, он просто не любил детей, – продолжал дядя Игоряша, сидя в глубоком чёрном кожаном кресле в приёмном покое некой онкологической клиники, – или, во всяком случае, не любил мальчиков. Он позволял себе со мной такие вещи, что мой одноклассник (далее последовало называние его имени и фамилии) говорил, что если б так обращались с ним, он ушёл бы из дома, и я знал, что лично он действительно так бы и сделал, а я вот нет, я так не мог…»
Он рассказал мне в тот день ещё многое, и многое из того, что он мне рассказал про себя, было, конечно же, общей хуйнёй для нас обоих, и, полагаю, так же и для моего деда, его отца, с которым они якобы не любили друг друга.
Когда Игоряше было 17 лет, «дед Арнольд» (именно так он вошёл в мою детскую жизнь со слов мамы (увы, он умер где-то за полтора года до моего рождения, когда ему не было ещё и шестидесяти)) ушёл от моей бабушки к некой поэтессе, живущей в Таджикистане, с которой они родили потом двоих детей. Когда это случилось, Игоряша написал ему очень трогательное и трепетное, со всем надлежащим пафосом своей тогдашней юности, письмецо, которое по иронии судьбы мне довелось прочесть в возрасте своих где-то лет 25-ти. Письмо было действительно очень горячее, а самым часто встречающимся там словом было слово «шлюха», относящее к новой пассии деда Арнольда. «Как ты мог променять нашу маму на свою шлюшку?», «Можешь передать своей шлюхе, что…» – примерно так J.