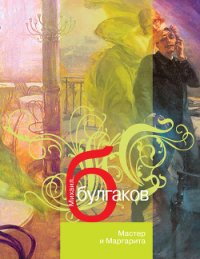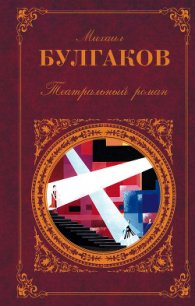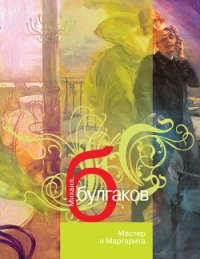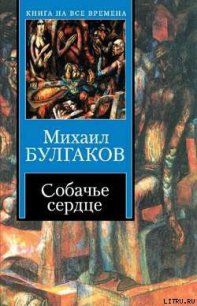Свет невечерний. Созерцания и умозрения - Булгаков Сергий Николаевич (прочитать книгу .txt) 📗
Слова и письмена, начертанные на человеческом языке со всей исторической конкретностью и обусловленностью, для научного изучения являются только литературно–историческим памятником, для верующего же сознания реально суть Слово Божие, историческая оболочка лишь прикрывает их божественное содержание. Слова эти преложены Духом Святым в Слово Божие, они имеют религиозно–символическую природу, т. е. им присуща религиозная реальность. Слово Божие есть религиозный миф в писанном слове, постоянно излучающем его божественный свет. Однако этот свет может быть и не виден научному исследователю, а открывается лишь приобщающемуся Слову Божию в меру его религиозного возраста. Поэтому глубина содержания Слова Божия бесконечна и совершенно несоизмерима с глубиной человеческих книг, хотя последние иногда его превосходят роскошью своего словесного облачения, которое, по промышлению Божию, в священных книгах скромное, а временами и убогое. Эта мысль неоднократно выражалась в различении двоякого или даже троякого смысла священного писания: . буквального (что, собственно, и соответствует предмету научного изучения), аллегорического (смысл коего хотя и прикрыт, но видим человеческому глазу) и таинственного, мистического, который открывается лишь при благодатном просветлении. Библия есть одновременно и просто книга, доступная научному изучению, и памятник иудейской письменности, и Книга книг, вечный Символ, раскрывающийся только вере, только молитве, только благоговению. Лица, опытные в духовной жизни, свидетельствуют, что Слово Божие имеет бесконечное и постоянно углубляющееся содержание. Подобным же образом и догматы в том виде, как изучает их Dogmengeschichje [259], суть лишь доктринальные тезисы, Lehrsätze [260], исторически обусловленные в своем возникновении, для религиозного же сознания они суть символы встреч с Божеством, религиозные реальности.
Относительно науки о религии уместно поставить' тот же самый вопрос, что и относительно религиозной философии: нужна ли для религии наука о религии, имеет ли она положительный религиозный смысл или ценность? И на этот вопрос возможен утвердительный ответ. Раз уже появилась наука с ее методами, было бы противоестественно, если бы она в силу той или иной догматической предвзятости, клерикальной или атеистической ортодоксии закрыла свои глаза и отвела руки от столь существенной области научного изучения, как феноменология религии. Со стороны науки это было бы лишь выражением полнейшего религиозного индифферентизма и даже нигилизма, и, наоборот, научное изучение религии является выражением своеобразного научного благочестия. Наука приносит к алтарю тот дар, который она имеет: она не умеет верить, не умеет молиться, ей чужда любовь сердца, но и она ведает amor Dei intellectualis, и ей присуща добродетель, соответствующая этой любви, — интеллектуальная честность, вместе с неусыпным труженичеством, аскезой труда и научного долга. И свое бремя закона она приносит как дар в царство благодати.
Научный интерес к религии может быть проявлением религиозного творчества, подобно религиозной философии. То обстоятельство, что научное исследование нередко связывается с настроениями, враждебными религии, не должно закрывать того факта, что в науке религия получает новую область жизненного влияния. Если посмотреть с этой точки зрения на пышное развитие науки о религии за последний век, то первоначально может получиться впечатление полной нерелигиозности науки, даже бесплодности ее для религии. Однако это суждение будет близоруко: надо смотреть поверх случайных и преходящих тенденций данного момента, которые быстро сменяются другими тенденциями, и оценивать факт развития науки о религии в его жизненном значении. Тогда он представится в надлежащем свете, именно как особое проявление религиозной жизни, хотя сухое и рассудочное, как напряженная мысль о религии, связанная с ее изучением, а ведь и мысль, и научное постижение есть тоже жизнь, совершается не вне человеческого духа. Мы отнюдь не видим в науке высшего проявления человеческого духа. Но раз вообще существует наука, то возможно и научное благочестие [261]. которым до известной степени и является наука о религии (и именно в силу этого она может становиться и нечестием, если отступает от своего прямого пути из–за враждебности к религии).
О т д е л п е р в ы й. БОЖЕСТВЕННОЕ НИЧТО
I. ОСНОВНАЯ АНТИНОМИЯ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
Основное содержание религиозного переживания, как касания миру трансцендентному, запредельному, божественному, явным образом содержит в себе противоречие для рассудочного мышления. Объект религии, Бог, есть нечто, с одной стороны, совершенно трансцендентное, иноприродное, внешнее миру и человеку, но, с другой, он открывается религиозному сознанию, его касается, внутрь его входит, становится его имманентным содержанием. Оба момента религиозного сознания даны одновременно, как полюсы, в их взаимном отталкивании и притягивании. Объект религии, Божество, есть нечто по существу своему трансцен–дентно–имманентное или имманентно–трансцендентное. Бог абсолютно возвышается над человеком, «во свете живет неприступном, которого никто не видел из людей и видеть не может» [262], и в то же время бесконечно уничижается, снисходит к миру, являет себя миру, вселяется в человека («приидем и обитель у него сотворим» [263]). Премирность, трансцендентность Божества и богоснисхождение, богоочеловечение или же человеко–обожение, составляют основное условие религии. Абсолют, который был бы только премирен или трансцендентен миру, не был бы Богом для человека, оставаясь для него совершенно нейтральным, равнозначащим чистому ничто. Бог же, который стал бы совершенно имманентен, и только имманентен, не был бы Богом, это был бы человек или мир, взятый в своей последней глубинности. Поэтому чистое и последовательное миробожие или человекобожие и есть безбожие.
Если перевести этот основной и элементарный факт религиозного сознания на язык религиозной философии, мы тотчас же увидим, что перед нами явно противоречивое сочетание понятий, приводящее к антиномии [264]. То, что имманентно, не может быть в то же время трансцендентным и постольку не трансцендентно; то, что трансцендентно, не может быть имманентным сознанию и остается для него запредельным. Если брать эти понятия в статической неподвижности, застывшими в логические кристаллы, то основное понятие религии, идея Божества, есть вообще лишь явное недоразумение, очевидное для всякого, обладающего логической грамотностью, это — горячий лед, круглый квадрат, горький мед. Однако рассудочная невозможность и противоречивость не есть гарантия реальной невозможности (вера в это была подорвана еще греческой философией: Платоном, Зеноном, — а в новое время Гегелем, который в своей «Логике», как бы ни были велики ее заблуждения, навсегда показал невозможность остановиться на любом из рассудочных определений и проявил при этом даже своеобразный пафос противоречий: der Wiederspruch ist Fortleitende! [265]). И если религиозное самосознание при первых же шагах своих явно сталкивается с рассудочным, то это никоим образом не является еще для него окончательным приговором, напротив, это значит только, что антиномия религиозного сознания должна быть раскрыта и осознана до конца в своих последствиях. Крупнейшею заслугой Канта в теоретической философии было констатирование антиномий рассудка, благодаря которым он неизбежно запутывается в свои собственные сети [266]. Имманентный рассудок, который не знает никакого соприкосновения с миром трансцендентным, вдруг становится трансцендентен для самого себя: оказывается, что в центре его имеется щель, через которую высыпается его содержание. Правда, эти антиномии у Канта благополучно «разъясняются» разумом, однако компетенция этого последнего, после того как обнаружена антиномичность его структуры, может считаться для этого тоже сомнительной, и, что здесь самое важное, этим нисколько не умаляется самый факт рокового антиномизма в мышлении, который явно показывает неадекватность мышления своему собственному предмету. Рассудок оказывается неспособен сделать вполне для себя имманентным бытие, подчинив его законам своего мышления, — между ними и бытием обнаруживается несоответствие, которое и находит свое выражение в антиномиях. Антиномия есть явный знак известной трансцендентности предмета мысли для мышления и вместе с тем крушение рассудочного, гносеологического имманентизма. Антиномическое мышление овладевает своим предметом, делает его себе имманентным только отчасти, лишь до известного предела, который и обнаруживается в антиномии. Полная трансцендентность предмета мышлению делала бы его вполне невозможным как объект мышления, или окончательно немыслимым; полная же его адекватность мышлению свидетельствовала бы о полной его имманентности: в божественном разуме, в котором мышление и бытие совпадают в едином акте, нет и не может быть антиномий, болезненных разрывов и hiatus'oв [267], составляющих естественное свойство разума человеческого. Отсюда, между прочим, выясняется разница между антиномией и противоречием. Противоречие логическое проистекает из ошибки в мышлении, из несоответствия мышления своим собственным нормам, оно имманентно в своем происхождении и объясняется недостаточным овладением предметом мысли со стороны логической формы. Диалектическое противоречие в смысле Гегеля проистекает из общего свойства дискурсивного мышления, которое, находясь в дискурсии [268], в непрерывном движении, все время меняет положение и переходит от одной точки пути к другой; вместе с тем оно, хотя на мгновение, становится твердой ногой в каждой из таких точек и тем самым свой бег разлагает на отдельные миги, на моменты неподвижности (Зенон!) [269]. Разумеется, при всякой такой задержке в дискурсивном беге обнаруживается вся произвольность каждой остановки, а вместе и необходимость «снятия» ее или дальнейшего движения к новой точке, опять для нового «снятия». Диалектика есть дискурсия дискурсии, и только Гегель мог увидать в ней преодоление дискурсивности, нечто абсолютное и сверхдискурсивное, между тем как и логика Гегеля есть рабство дискурсии, отличающееся даже воинствующим характером. Поэтому противоречие диалектическое отличается от противоречия логического тем, что оно проистекает не из ошибки, но из критического самосознания формальной мысли, причем диалектика считает себя тем самым и возвышающейся над этими противоречиями. Совсем иное представляет собой антиномия. Она порождается осознанной неадекватностью мышления своему предмету или своим заданиям, она обнаруживает недостаточность сил человеческого разума, который на известной точке принужден останавливаться, ибо приходит к обрыву и пропасти, а вместе с тем не может не идти до этой точки. Но скажут: разве предмет мышления может быть неадекватен мышлению? Ведь предмет мышления есть мысль, он «порождается» мышлением и потому не может быть ему неадекватен, в этом весь пафос имманентизма от Гегеля до Шуппе и Когена. Мы считаем такое понимание весьма односторонним, за него была покарана еще философия Гегеля, притязавшая философски дедуцировать все эмпирическое бытие и обанкротившаяся на этом притязании (от него был свободен, до известной степени, даже философский отец имманентизма Кант, утверждавший непознаваемую Ding an sich [270], которая есть не что иное, как объект мышления, ему неадекватный). Притязание неокантианцев на всецелое порождение мышлением объекта мысли (reiner Ursprung [271]) есть самообман, ибо условно методологические операции мысли, служащие лишь для ассимилирования мыслью ее объекта, здесь смешиваются с самим объектом. Мысль логически расщепляет и приспособляет себе этот объект, но он существует до мышления и от него независимо, поэтому он задан мышлению, он задача задач, к которой ведут все отдельные усилия мысли. Мысль рождается не из пустоты самопорождения, ибо человек не Бог и ничего сотворить не может, она рефлектируется из массы переживаний, из опыта, который есть отнюдь не свободно полагаемый, но принудительно данный объект мысли [272]. Гносеологическому опыту (в кантовском смысле) предшествует жизненный, алогический или сверхлогический опыт, в котором, непостижимо для мышления, уже дается и порождающая мышление материя, и вся эта серая масса опыта постепенно преодолевается и ассимилируется мышлением. Мышление «порождает» свои частные объекты путем логического преодоления жизненно данного ему объекта, не им созданного, но ему властно повелевающего. Так математик может разбить данную площадь в целях ее измерения на какие угодно фигуры и применить при этом какие угодно формулы — в этом заключается свобода «порождения» для его мышления, но он все–таки имеет перед собой определенную, ему данную проблему, которая может притом оказаться и не вполне разрешимой. Антиномия не означает ошибки в мышлении или же общей ложности проблемы, гносеологического недоразумения, которое может быть разъяснено и тем самым устранено. Разуму присущи вполне закономерные антиномии.