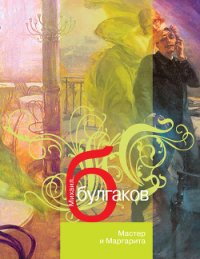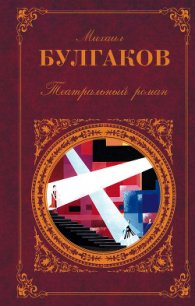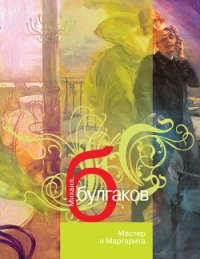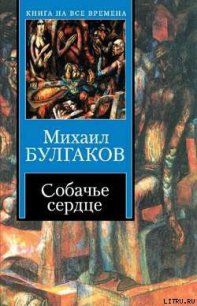Свет невечерний. Созерцания и умозрения - Булгаков Сергий Николаевич (прочитать книгу .txt) 📗
Обычно восхваляют «фанатиков науки» и враждебно презрительны к «фанатизму» веры. Но ведь истина всегда нетерпима и несговорчива, и недорого стоит иная терпимость. Слишком легко проповедовать терпимость и быть терпимым, не имея ничего за душой, но попробуйте быть терпимым, горячо веря в определенную истину. Скажут: истина не боится соревнования, но это не она, а мы должны бояться, мы, перед которыми в беспорядочной куче лежит все это «многообразие» религиозного опыта [165], весь этот пантеон богов и религий, целый ассортимент истин, предлагающихся на выбор любителю, где наша истина лежит рядом со всяческой ложью, внешне, формально ей равноправною. Надо быть рыцарем истины, всегда готовым к бою за всякое умаление чести Прекрасной Дамы.
Так называемая терпимость может быть добродетелью, и становится даже высшею добродетелью, чем нетерпимость, лишь тогда, когда она питается не индифферентным «плюрализмом», т. е. неверием, но когда она синтетически (или, если угодно, «диалектически») вмещает в себе относительные и ограниченные полуистины и снисходит к ним с высоты своего величия, однако отнюдь не приравниваясь к ним, не сводя себя на положение одной из многих возможностей в «многообразии религиозного опыта». Можно в качестве примера указать на отношение ап. Павла (см. особенно Посл. к Римл., гл. 12) к воскормившему его и оставленному им иудейству: вот пример положительной терпимости и положительной нетерпимости.
Любовь не есть «терпимость». Разве это не Учитель любви говорил: горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, порождения ехидны, гробы повапленные [166], — все эти гневные и беспощадные, именно в своей правде беспощадные, слова? Разве это терпимость в нашем кисло–сладком, плюралистическом смысле? Ведь это же «буйство», «фанатизм», на взгляд проповедников терпимости… Боже, пошли же нам ревнивую нетерпимость в служении святой правде Твоей!
Поскольку содержанию веры свойственно качество объективности, постольку оно получает и атрибут универсальности и всечеловечности — кафоличности [167], которая есть лишь иное выражение объективности. Если в вере для меня открывается сама истина, если я выхожу из скорлупы своей субъективности и соприкасаюсь с чем–то неизмеримо огромным, то, очевидно, соприкасаюсь я не тем, что во мне индивидуально и особно, но тем, что универсально, всеобще, кафолично. Как родовое существо, как человек, предстаю я перед Божеством; человеческая сущность, человек вообще, ощущает себя во мне в этом акте. В этом своеобразная парадоксия религиозного восприятия: будучи из всех жизненных актов наиболее индивидуальным, лично выстраданным, лично обусловленным, оно в то же время оказывается и наиболее универсальным — явный знак того, что между индивидуальным и универсальным нет противоположности; истинно индивидуальное и есть истинно универсальное, или же наоборот, истинно универсальное существует и познается лишь как индивидуальное.
Нельзя обладать истиной индивидуально: разумеется, фактически она может быть в тот или иной момент доступна лишь ограниченному числу лиц или даже единичному человеку, но и он, этот единственный, имеет истину не как свою, но как всеобщую, к которой он лишь содеялся причастен. И если индивидуальная истина есть вообще contradictio in adjecto даже в области познания, то уж тем более в области религии, где каждый отдельный индивид перед лицом Бога ощущает себя как человек или как человечество. Религия, religio, есть связь не только человека с Божеством, но и человека с человечеством, или последнее и предельное его утверждение в своей человечности, притом связь эта крепче, онтологичнее, нежели всякая иная: поэтому «религиозный индивидуализм» есть горячий лед, круглый квадрат. Эту универсальную природу религии часто не понимают социологи, которые полагают, что человечество социализируется политическим, правовым, хозяйственным общением, и не замечают при этом, что ранее, чем возникают все эти частные соединения, для того чтобы они стали возможны, человечество уже должно быть скреплено и цементировано религией, и если народность есть естественная основа государства и хозяйства, то самая народность есть прежде всего именно вера. Только религия подлинно социальна и в этом качестве есть основа социальности, хотя, как самая глубокая основа, она всего реже в этом значении усматривается. Даже когда сознательно хотят от нее освободиться, все–таки сохраняют ею созданный и ей принадлежащий идеал «человека», чтобы получить из него и «гражданина». С другой стороны, признаком незрелости или же болезненного упадка является индивидуализм в религии. В настоящее время, когда вкус к серьезной и мужественной религии вообще потерян и капризом субъективности с ее прихотливо сменяющимися настроениями дорожат белее, нежели суровой и требовательной религией, не терпящей детского своеволия, религиозный индивидуализм находится в особой чести: те, кто еще снисходят до религии, чаще всего соглашаются иметь ее только индивидуально; личное своеволие явным образом смешивается при этом со свободой, которая достигается именно победой над своеволием. Протестантизм весь болен таким индивидуализмом, который точит его, как червь, и религиозно обессиливает. Всего труднее поверить истине, что она — истина, т. е. требует преклонения перед собой и самоотвержения; гораздо легче эту истину воспринять как мое мнение, которое я полагаю как истину: «род лукавый и прелюбодейный» даже из истины делает средство тешить свое маленькое я. Религиозная истина универсальна, т. е. кафолична (καθόλου), сообразна с целым, а не с частностями; по внутреннему ее устремлению, в истине все обретаются как один, или один во всех: «возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы» [168]. Вследствие этого она соборна, ибо соборность есть только следствие кафоличности, ее выражение, но отнюдь не внешний ее критерий. Очень важно отличать кафолическую соборность от коллективности или внешней общественности, именно ввиду того, что смешение это очень распространено. Дело в том, что провозглашение истины, согласно православному вероучению, принадлежит собору, который, однако же, действует и авторизуется Церковью не как коллектив, общеепархиальный съезд или церковный парламент, но как орган самого «Духа Истины», Духа Святого (отсюда соборная формула: «изволися Духу Св. и нам»). Соборное провозглашение истин веры вытекает из единения в целокупной и целокупящей истине: здесь решает не большинство голосов (даже если внешне оно и применяется как средство обнаружения мнений), но некоторое жизненное единение в истине, вдохновение ею, приобщение ей. Потому здесь не имеет решающего значения и количественный критерий: едва ли хоть один вселенский собор был действительно вселенским в том смысле, чтобы на нем были представители всех поместных церквей, и наоборот, собор, имевший внешние признаки вселенского, мог оказаться «разбойничьим» и еретическим (Ефесский [169]). И теперь, когда христианская церковь расколота, по крайней мере, на две части, значит ли это, что вовсе не может быть провозглашена кафолическая истина, хотя теперь внешне и не возможен вселенский собор? Католики отнюдь не неправы в том, что не считают остановившимся догматическое развитие из–за внешнего раскола церквей, — иначе ведь надо было бы признать, что очень легко человеческими дрязгами и ссорами преградить путь действия Духа Святого на Церковь. Их грех и вина против кафоличности совсем не в этом, а в том, что они исказили самую идею кафоличности, связав ее с внешним авторитетом, как бы церковным оракулом: соборность, механически понятую как внешняя коллективность, они подменили монархическим представительством этой коллективности — папой, а затем отъединились от остального христианского мира в эту ограду авторитета и тем изменили кафоличности, целокупящей истине, церковной любви. Но столь же католически или внешне понимают кафоличность и те их антагонисты, которые считают раскол церквей достаточным основанием прекратить искание догматической истины под предлогом, что вселенский собор теперь невозможен, а потому можно спать спокойно. Из понятия кафоличности (соответствующего и непреложному обетованию: «где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их» [170], а, стало быть, в них почиет и ум Христов, т. е. сама истина) следует, что внешний масштаб соборности имеет значение скорее для признания истины, чем для ее нахождения: вселенский собор, притом не по имени только, но реально, возможен и теперь нисколько не меньше, чем прежде. Если собрание «двух или трех верующих» ощутит себя реально кафоличным и на самом деле будет таковым, то зерно вселенского собора тем самым уже дано, а признание его есть дело дальнейшей церковной истории [171].