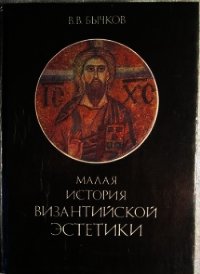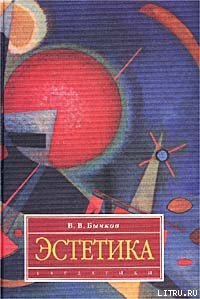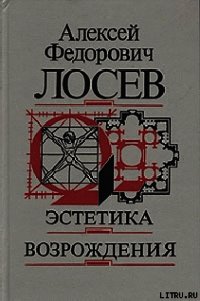Эстетика отцов церкви - Бычков Виктор Васильевич (полная версия книги txt) 📗
Не все ли это отразилось и в последнем эстетическом трактате Августина, когда он, может быть в последний раз, особым риторическим приемом вывел на первое место эстетическое суждение, чтобы затем свергнуть его с помощью разума, но перенеся на этот разум название, уже тесно связанное в душе читателя с эстетическим суждением. Что это? Ностальгия по отринутой сфере? Отзвук уходящих увлечений юности? Или уже новое понимание ограниченности и разума, и рациональной оценки и ощущение необходимости возвращения к чувству, но уже на каком-то ином, новом уровне? Так ли уж случайна игра в слова: rationales теперь стало judiciales, а judiciales превратилось в sensuales? Августин был человеком своего времени, жил им и выражал главные духовные тенденции этого времени, меньше всего задумываясь об этом.
Однако введение рациональной оценки опять возвращает нас от искусства к науке, ибо, конечно, все ее математические достижения, изложенные в первых пяти книгах «De musica». по достоинству могут быть оценены только разумом. Августин стремится исследовать далее сферы деятельности разума и чувственного суждения. Разуму доступно все то, о чем до сих пор писалось в трактате, и прежде всего он постигает, «что есть сама хорошая модуляция, которая заключается в некотором свободном движении, стремящемся к красоте» (VI, 10, 25). Он постигает законы организации ритмов и все числа, связанные с созданием и восприятием искусства, включая и свои собственные числа, как наиболее высокие.
А что же входит в сферу чувственного суждения и на основе чего оно судит? Здесь Августин обращается к тем эстетическим проблемам ритма, которые он наметил во II-V кн. трактата, и развивает их дальше. Прежде всего это касается закона равенства. Именно на нем во всех его модификациях (равенство, соразмерность, соответствие, пропорция - все это объемлет многозначный термин aequalitas) и основывается «чувственное суждение», или чувство удовольствия (радости, наслаждения - delectatio). На этой ступени восприятия душа не может познать закона равенства, но только чувствует радость от восприятия самого равенства720. «Телесное удовольствие души» не способно даже оценить, истинное ли это равенство, т. е. оно может допустить ошибку, принять неравенство за равенство, и у него нет критерия для исправления ошибки. А что может быть хуже, чем •принять подражание равенству за само равенство, хотя «мы не можем отрицать, что само подражание в своем роде и в своем порядке является прекрасным». Только разум признается Августином окончательным и законным судьей чувственной красоты. Он постигает те закономерности, к которым чувственность лишь стремится (VI, 10, 28)721.
Обращаясь, далее, к вопросу о пределах и границах восприятия, Августин опять напоминает, что числами пронизано все бытие от самых грубых материальных предметов до бескрайних космических далей и высших сфер духа, и доводит до логического конца свою теорию числовой организации бытия. Далеко не все из чисел (т. е. закономерностей) универсума доступны нашему восприятию. Правильно ориентированный в духовной сфере человек находится в системе числовой иерархии между высшими и низшими числами. При этом низшие числа не оскорбляют и не раздражают его, но только высшие доставляют удовольствие. Здесь Августин опять вспоминает антипод разума - delectatio, как средоточие всей духовной радости, высшего неописуемого наслаждения души, возникающего при восприятии всего соразмерного и вечного, т. е. практически эстетическое наслаждение. «Ибо, без сомнения, наслаждение является как бы основанием души» (VI, 11, 29)722. Оно упорядочивает душу. А что может быть выше тех чисел, которые содержат высшее, неизменяемое, вечное равенство? Там нет времени, так как нет изменяемости. Эти неизменяемые числа являются причиной и времени, которое создается и упорядочивается как подражание вечности, и всего космического порядка. Вращение неба, возникновение небесных тел и все остальное на звездных путях подчиняются «законам равенства, единства и упорядоченности». С небесными телами объединяются в единую космическую мелодию и подчиненные им земные предметы в круговороте своих исчисляемых времен (VI, 11, 29). «В этом, - развивает далее свою мысль Августин,- многое представляется нам неупорядоченным и расстроенным, ибо о каждом порядке мы судим по своим меркам и не знаем, что божественное Провидение представляет нам [все] прекрасным. Если, к примеру, кто-то встанет как статуя между роскошнейшими и прекраснейшими домами, он не сможет почувствовать красоты всего архитектурного ансамбля, так как сам будет его частью. Столь же мало может увидеть порядок построения всего войска солдат, находящийся на линии битвы. И в любом стихотворении, если слоги звучат какое-либо время, то они живут и чувствуют, но никоим образом им не может нравиться числовая соразмерность и красота соединенных [частей], так как они не могут ни обозреть, ни одобрить целого, ибо каждый из них образуется и имеет совершенство в продолжение быстротечного отрезка времени» (VI, 11, 30).
Таким образом, вечная красота и упорядоченность универсума, по мнению Августина, недоступны восприятию преходящего человека. Знание о высшем равенстве, единстве и упорядоченности он должен принять на веру. Ни восприятию, ни постижению высшая красота, понимаемая здесь как красота универсума, не поддается. Тем не менее она-то и является абсолютной ценностью. Числа же, возникшие в душе, ориентированной на преходящие вещи, также обладают красотой своего рода, но это красота преходяща, и божественное Провидение с досадой взирает на душу, устремленную к ней (VI, 11, 30).
Помимо непосредственного восприятия Августин подробно останавливается на двух видах представлений, связанных, как он считает, с памятью и «действующих против телесных восприятий». Августин обозначает их греческими терминами phantasia и phantasma (ср.: De Trin. XI, 10, 17). Под фантасией он понимает представления, образы, возникшие на основе когда-то бывшего реального восприятия. Однако эти образы неустойчивы и создают предпосылки для ложных суждений. На основе фантасий, которые в различных и противоположных направлениях волнуют душу, возникают новые духовные движения, которые уже не имеют прямой связи с предыдущими телесными восприятиями и чувственными впечатлениями и относятся к ним (подобны им - similes) как «образы образов» (imaginum imagines). Их Августин и называет phantasma. По-одному ибо, пишет он, представляю я себе отца своего, которого часто видел, и по-иному - деда, которого никогда не видел. Первое представление я нахожу в памяти - это фантасия, второе - в движении духа, берущем свое начало в памяти,- это фантасма. «Каким образом возникает и то и другое, трудно понять и объяснить. Все же, я думаю, что, если бы я никогда не видел человеческого тела, никоим образом не смог бы я мысленно образовать его видимую форму. Но и то, что делаю я из того, что я видел, я делаю с помощью памяти; и все же одно - находить в памяти фантасию и другое - делать из памяти фантасму» (VI, И, 32). Фантасмы возникают на основе свободных комбинаций образов когда-то виденных предметов и их элементов. Так, пишет Августин в «De Trinitate», никто не видел черных лебедей или четвероногих птиц, но наше воображение легко может представить себе и тех и других. Управляет фантасией и фантасмой (сознательно или неосознанно) воля (De Trin. XI, 10, 17).
Эти идеи, хотя они во многом и опираются на соответствующие мысли Плотина723, представляют большой интерес и для истории средневековой гносеологии, и для истории эстетики. Фантасия означает у Августина нечто близкое к нашему «представлению», но имеющему уже некое отступление от действительности, а фантасма близка к нашему «воображению», «фантазии». Важно, что обе формы мыслительных образов Августин производит от конкретного чувственного восприятия и видит в них две последовательные ступени отхода мысли от этого восприятия в область достаточно свободного воображения. И фантасию и, тем более, фантасму нельзя принимать за истинное представление. Истинное суждение на основе чувственного восприятия составляет, как мы видели, только разум с помощью своих судящих чисел. Тем не менее доля истины, но особой, неформализуемой, содержится и в фантасии, и в фантасме. Не бессмысленно ведь говорим мы, что в первом случае «мы чувствуем это так», а во втором - «мы так это воображаем (imaginari)». «Не без основания я могу сказать, что я имел отца и деда; но сказать, что они были точно такими, как их сохранил мой дух в фантасии или в фантасме, было бы в высшей степени неразумно». Есть, однако, люди, которые все суждения основывают только на своих фантасиях и фантасмах, принимая их за знания, постигаемые чувствами. Августин с осуждением относится к ним (VI, 11, 32).