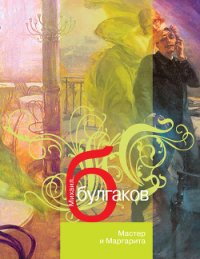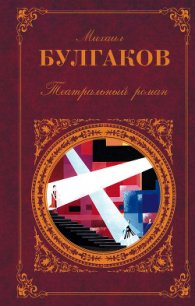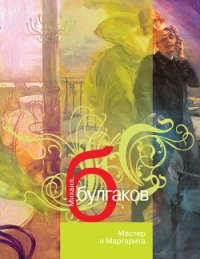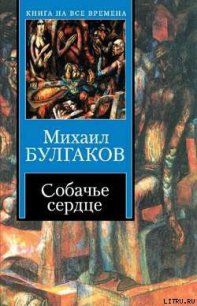Свет невечерний. Созерцания и умозрения - Булгаков Сергий Николаевич (прочитать книгу .txt) 📗
Где нет молитвы, там нет религии [86]. Не надо притом смешивать с молитвой ее теософических суррогатов: «концентрации, медитации, интуиции», которые все–таки имеют дело не с Богом, но с миром, погружают человека не в Трансцендентное, но в имманентное, божественным хотят подменить Бога, — обман или самообман. К тому же, в «оккультном» пути целью восхождения всегда является ближайшая в порядке «эволюции» иерархическая ступень. Молитвенное же дерзновение — и в этом чудо и благодать молитвы — идет прямо к престолу Всевышнего, минуя все «иерархии». При обращении же за помощью к святым последние отнюдь не являются в качестве таких промежуточных иерархий, заполняющих пропасть между человеком и Богом (ибо эта бездна незаполнима никаким «эволюционным» процессом и никаким иерархическим восхождением), но лишь как близкие нам и, вместе с нами, предстоящие престолу Господа силы. Коснеющее в грехах и темноте создание Божие дерзновенно говорит в молитве прямо с Господом, и Господь соизволяет на это дерзновение. И все «иерархии», насколько они имеют значение в молитве, светят лишь отраженным светом Солнца солнц. Такова молитва.
Итак, тому, кто хочет непредубежденным и воистину критическим оком исследовать религию в ее «трансцендентальной» характеристике, необходимо спросить себя: что же такое молитва? И, если только он не поддастся лукавому соблазну ratio ignava et obscura [87], не объявит все это психологизмом или психопатизмом и не отмахнется от этого пренебрежительным жестом, то он спросит себя: «как возможна молитва?» Об этом, однако же, не пожелал lege artis [88] вопросить критицист Кант, без разговоров объявивший молитву «Abgötterei», «Afterdienst», и под. За ним последовал и Фихте, увидавший в молитве лишь унижение человеческого достоинства. В сравнении с таким отсутствием религиозного вкуса нельзя не отметить относительной проницательности у Гегеля, который в «Философии религии» дает высокую оценку значению «культа», а в его составе, конечно, и молитвы [89] (хотя общая его точка зрения радикального имманентизма, конечно, не благоприятствовала пониманию центрального значения молитвы в религии).
Самобытность религии основана на том, что религия обладает своим способом опознания Божества, или органом трансцендентного, своим удостоверением или (если распространить на область религиозной жизни понятие опыта, как сделал это Джемс) своим особым опытом. «Сердце имеет свои законы, которых не знает ум», — сказал Паскаль [90], имея в виду эту особую природу религиозной очевидности и достоверности. Обычно это религиозное опознание называется верой, которая и получает поэтому столь центральное значение в гносеологии религии: анализ природы веры есть своего рода «критика религиозного разума».
Чтобы оценить значение веры, нужно прежде всего принять, что вера хотя и не подчиняется категориям логического, дискурсивного познания, однако тем самым еще не низводится на степень субъективного верования, вкуса или прихоти, ибо такое истолкование противоречит самому существу веры: это была бы неверующая вера. Между тем вера по–своему столь же объективна, как и познание. «Есть ли Бог?» «Бог живет в моей душе». «Нет, есть ли Бог!» «Он есть в моей душе». Привожу этот диалог (в действительности имевший место в 1903 году и Штутгарте между мною и П. Б. Струве [91]) как характерный для постановки вопроса о вере. Вера, на которой утверждается религия, не может ограничиваться субъективным настроением, «Богом в душе», она утверждает, что Бог есть, как трансцендентное, есть вне меня и лишь потому есть во мне [92]. В вере не человек создает Бога, как говорит неверие (Фейербах), но Бог открывается человеку, а потому и человек находит в себе Бога или себя в Боге. Вера с объективной стороны есть откровение, в своем содержании столь же мало зависящее от субъективного настроения, как и знание, и, подобно последнему, лишь искажается субъективизмом [93].
Но не есть ли, слышится голос скептицизма, эта объективность веры — иллюзия, галлюцинация, психологизм? Но в таком случае не есть ли, поставим мы перекрестный вопрос, такая же иллюзия вот это море, которое я вижу, и этот его шум, который я слышу, эта синева неба, которую я созерцаю? Конечно, возможно допустить, что я могу заблуждаться в своем чувственном опыте, возможно, что это не море и не его шум, а мне только показалось, и что никакой синевы неба в действительности нет, а я ошибся. Но в этом я могу убедиться, только опираясь на чувственное или эстетическое восприятие, его исправляя и углубляя, логическими же доводами никто не может обессилить непосредственной силы и убедительности моего впечатления. Таким же образом доводами рассудка нельзя разрушить и непосредственной очевидности веры как самостоятельного источника религиозного восприятия, ее возможно потушить, обессилить, но не разубедить. Это отразилось и на словоупотреблении, по крайней мере, русского языка, зовущего религию верой. Нельзя изгнать веры из веры. Разум принимает за истину только то, что может быть доказано, обнаружено как необходимое звено в причинной связи. Логическая необходимость — такова основа знания. Вера есть путь знания без доказательств, вне логического достижения, вне закона причинности и его убедительности. Вера есть hiatus [94] в логике, безумное сальто–мортале: «будь безумным, чтобы быть мудрым» (1 Кор. 3:18), говорит она человеку. Вера свободна от ига рассудочности (не хочу сказать: разума, ибо она является выражением высшей разумности), рассудок презирает, в лучшем случае игнорирует и не понимает веры. Такое положение было бы нестерпимо и совершенно раскалывало и обессиливала бы наше сознание, если бы вера и рассудок имели одну и ту же задачу, один и тот же предмет. Но в действительности этого нет: то, во что можно верить, нельзя знать, оно выходит за пределы знания, а в то, что можно знать, нельзя и не должно верить. Кто верит в таблицу умножения или Пифагорову теорему? ее знают. И кто знает Бога, включая Его в число предметов научного знания? В Него верят и познают верой. Вера же, по определению апостола Павла, есть «уверенность в невидимом как видимом, ожидаемом и уповаемом как настоящем». То, чего нет и не может быть дано для рассудочного знания, то может знать вера, оно ей доступно. Отсюда следует практическая максима: все, что может стать предметом познания, должно быть познаваемо. Вера поэтому не враждует с знанием, напротив, сплошь и рядом сливается с ним, переходит в него: хотя она есть «уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» (Евр. 11:1), но уповаемое становится, наконец, действительностью, невидимое видимым. Вера в этом смысле есть антиципация [95] знания: credo ut intelligam [96], хотя сейчас и не опирающаяся на достаточное основание: credo quia absurdum [97]. Вера перескакивает через закон достаточного основания, логической самоотчетности: основания ее недостаточны, или вовсе отсутствуют, или же явно превышаются выводами. И, однако, это отнюдь не значит, чтобы вера была совершенно индифферентна к этой необоснованности своей: она одушевляется надеждой стать знанием, найти для себя достаточные основания [98].
Антиципация возможного опыта и превышение оснований вовсе не означает пренебрежения ими. В вере есть свобода, но вовсе нет произвола, вера имеет свою «закономерность». И, прежде всего, вера никогда не возникает без некоторого, хотя для обоснования ее содержания и недостаточного, но для ее зарождения достаточного знания в предметах веры. Вера в Бога рождается из присущего человеку чувства Бога, знания Бога, и, подобно тому как электрическую машину нельзя зарядить одной лекцией об электричестве, но необходим хотя бы самый слабый заряд, так и вера рождается не от формул катехизиса, но от встречи с Богом в религиозном опыте, на жизненном пути. И вера верит и надеется именно на расширение и углубление этого опыта, что и составляет предмет веры как невидимое и уповаемое. Но человек сам должен совершать это усилие, осуществлять это устремление, поэтому вера есть жизненная задача, подвиг, ибо она может становиться холоднее или огненнее, беднее или богаче. А потому и предмет веры, — ее догматическое содержание, — всегда превышает наличный религиозный опыт. Является величайшим заблуждением думать (вместе с духоборами, квакерами [99] и им подобными представителями сродных им антидогматических и анархических течений в религии), что только реальное содержание наличного религиозного опыта или личного откровения составляет предмет веры, всякое же предание, письменное или устное, литургическое или обрядовое, как таковое, уже противоречит живой вере. Рассуждающие таким образом, под предлогом мистики, совершенно устраняют веру ради религиозно–эмпирической очевидности; при этом своеобразном мистическом позитивизме (который, впрочем, чаще всего оказывается, кроме того, и иллюзионизмом) совершенно устраняется подвиг веры и ее усилия, а поэтому отрицается и самая вера, а вместе с нею и неразрывно связанные с ней надежда и любовь, место которых занимает откровенное самомнение.