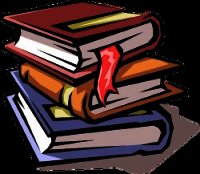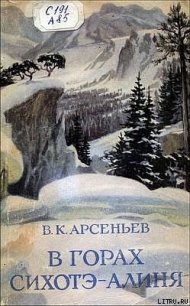О Жизни Преизбыточествующей - Арсеньев Николай Сергеевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью TXT) 📗
Бог все творит — кроме зла и греха [276]. Но грех и зло лишены подлинного существования; с точки зрения исконной, истинной, метафизической действительности — Божественной жизни, их нет. Поэтому, Юлиания во время озарений своих не увидела греха: «ибо я думаю», говорит она: «что он не Имеет никакого рода существования и не причастен бытию (it has no manner of substance, nor part of being), и не может быть познан как только по страданию, которое он причиняет» [277]. И в заключение своих откровений, уверившись непреложно во всепревозмогающей, победной, неиссякаемой, беспредельной силе Любви Божией, она с торжеством восклицает, обращаясь ко греху: «О, презренный грех! что ты такое? Ты — ничто! Ибо я видела, что Господь — все. Тебя же я не видела. И когда я видела, что Господь сотворил вое, я тебя не видала. И когда мне было открыто, что Господь совершает все, что совершается, малое и великое, я тебя не видала. И когда я узрела Господа нашего Иисуса, как Он восседает в нашей душе с великою славою, и как Он любит, управляет и охраняет все, что сотворено Им, я не видала тебя» [278]. И вместе с тем в нашем условном, эмпирическом мире и зло и страдание и грех бесспорно даны и не только ощущаются весьма реально, но и являются факторами огромной, бесконечной важности для нашей духовной жизни. Юлиания не только их не игнорирует, но усиленно подчеркивает их безмерно–огромное значение: страдание очищает, воспитывает душу, с грехом же нужно, с Божьей помощью, всеми силами неутомимо бороться, предпочитая е|му всяческое другое страдание и на земле и за гробом [279]. Проблему зла и греха, видимое противоречие, имеющееся здесь между истинной сущностью вещей и временно, эмпирически данным состоянием, которое вызвано грехопадением, проблему, над метафизическим разрешением которой так трудились, напр., Григорий Нисский, Августин и Скот Эриугена, Юлиания констатирует [280], но не старается метафизически объяснять и решать: ее интересует только, что нам непосредственно нужно для нашего спасения, что непосредственно его касается, и что практически определяет наш духовный строй — наше отношение к Богу, людям и миру. «Все же остальное, что не относится к нашему спасению (all that is beside our salvation), сокрыто от нас» [281].
Практические же выводы из этого учения о Божественной Любви как мировой стихии, из этого признания Бога за сущность, глубочайшую основу и цель мировой жизни, весьма велики, и Юлиания их делает. Она не может проклинать мира и видеть в нем царство диавола, как многие представители господствующего — почти дуалистического церковного миросозерцания Средних Веков [282]. Мир для нее — мы видели — есть творение любви Божией, в его основе лежит избыточествующая Божественная жизнь; все, что есть доброго в твари, это — отблеск Бога в творении; все в мире, кроме греха, совершается силою Божией, совершается Богом; мир «прекрасен и полон добра»; в творении, во всех вещах проявилась та же безмерная Любовь, высшим проявлением которой явилась Жертва Искупления. И охваченная этими волнами Любви, разлитыми в мире повсюду, и Юлиания любит весь мир и благословляет мир, ибо чувствует в нем присутствие Бога. «Тот, кто любит своих братьев во Христе», говорит она, «он любит и все, что существует (he loves all that is)… И тот, кто так любит, спасется. И я так буду любит, и я так люблю» [283] …
Это просветление мира, это озарение его лучами любви вытекало из самых основ ликующего, победного благовестил первого христианства. Вечная Жизнь вошла в мир и воплотилась и победила смерть. В воскресении Иисуса во плоти уже дана в потенции окончательная победа жизни над царством бывания и тления, уже начался постепенный процесс преображения мира, возвращение его к Богу, восстановление всей Природы. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» восклицает Павел (1 Кор. 15. 55) и учит о грядущем прославлении, реабилитации всей твари (Рим. 8. 19–22), когда «Бог будет все и во всем» (1 Кор. 15. 28). Но уже и теперь, при свете безмерной любви Божией, открывшейся в Сыне, в муках, смерти и воскресении Сына, все миросозерцание озаряется радостью: пусть мир еще «во зле лежит» (1 Ин. 5. 19), но «всегда радуйтесь! непрестанно молитесь, за все благодарите», возвещает Павел [284]. Эта радость заливает душу первых носителей «благой вести», она отмечается ими, как отличительная черта этой проповеди о победе Вечной Жизни; «чадами радости» (τέκνα ενφροσννψ) называют себя первые христиане [285], они радуются мукам и гонениям, они с радостью живут и с радостью умирают. И снова и снова, когда в последующих веках с особым подъемом пробуждается мистическая жизнь в христианстве, и Бог с новой силой раскрывается жадно ищущим душам в центральном образе Иисуса Христа–Богочеловека как безмерная и бесконечная Любовь, все миросозерцание озаряется для них лучами любви и радости [286].
Для Франциска Ассизского все твари, вся Природа — братья и сестры, одна большая семья, охваченная объятиями Божественной любви, и он поет радостный гимн брату–солнцу. «Лествицей Божественной любви» — «Scala divini Amoris» — является вся Природа для другого средневекового мистика: так, во всех стихиях, и во всех тварях — говорит он — звучит мелодия Божественной песни (melodia de cant), и «одно из величайших чудес в нынешнем веке, это — что моя душа не умирает и не выходит из себя, когда слышит, как небеса и земля оглашаются этими звуками» … Бог и мир охвачены как бы одной чередущейся песнью: «Итак, Бог начинает Свою balada и говорит: к Любовь»! (Amors!), и все твари отвечают: «Ты сотворил нас!» И про эту doussa ballada («сладостную балладу») говорит mosenher san Iohan Evangelista, что он слышал, как ее пели все твари на земле и на небе, и в воде: «Любовь, Ты создала нас, чтобы любить!» Это — четвертая ступень для человека, чтобы взойти в чертог любви: именно, когда душа от великой сладости тех звуков, что производят все твари, восхваляя Господа…, приходит в такое восхищение, что не видит, не слышит и не чувствует, ибо забывает себя самое и помнит лишь Господа» [287]. Так и Якопоне да Тоди восклицает: «О amor, divino amore — perche m/hai assediato? — О, Любовь, Божественная Любовь, почему Ты со всех сторон осадила меня?» Некуда бежать, некуда скрыться от нее; отовсюду, изо всех тварей, через все телесные чувства, через все восприятия и ощущения, поражают его стрелы Божественной Любви [288]. И в глазах Данте тварный мир, земная красота просветляются: в них просвечивает первоисточник — вечный Свет (l’eterna luce), творческая изначальная Любовь (l’eterno Amore) [289]. Сиянием этой любви мир озаряется, напр., и для Мейстера Экхарта и для Анджелы из Фолиньо [290]. Так и в глазах великого испанского мистика Juan’a de la Cruz все творения полны отблесков красоты Возлюбленного [291].
В ощущении присутствия Божия в мире, более того — в созерцании всего мироздания покоющимся в лоне Любви Божией, Юлиания из Норича сходится с величайшими мистиками Средних Веков [292]. Но она не останавливается на этом, она идет еще дальше.