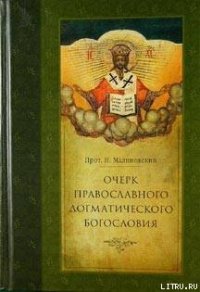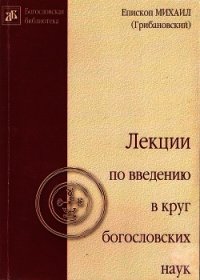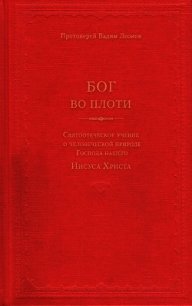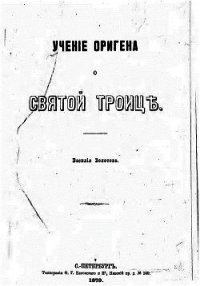Статьи (СИ) - Протоиерей (Шмеман) Александр Дмитриевич (электронная книга txt) 📗
В. Жардин Грисбрук, вслед за Домом Боттом, предполагает, что для меня «Задача литургического богословия заключается в том, чтобы вернуть наиболее важное и поставить второстепенное на свои места», и таким образом приготовить почву для литургической реформы, которая восстановит «сущность» литургии. Если бы это предположение было правильным, то В. Ж. Грисбрук был бы, конечно, совершенно прав, упрекая меня в «недостатке логики и ясности», и в моем, в этом случае безусловно безответственном, нежелании признать крайнюю необходимость литургической реформы.
В действительности, однако, такое понимание литургического богословия отнюдь не есть мое и поэтому мой подход к сложному вопросу литургической реформы совсем не обязательно является результатом «недостатка логики». В моей книге, а также в других моих публикациях, я пытался показать, что «сущность» литургии или lex orandi есть ни что иное, как сама вера Церкви, или, лучше сказать, проявление веры, общение в вере и исполнение этой веры. Именно в этом смысле надо понимать, как мне кажется, знаменитое изречение lex orandi est lex credendi. «Это не означает сведения веры к литургии или культу, как это было в мистериальных культах, где целью веры являлся сам культ, а его спасительная сила была самим предметом веры. Это также не означает смешения между верой и литургией, как в известном литургическом благочестии, где «литургический опыт», опыт «священного», просто заменяет веру и делает человека безразличным к ее «доктринальному» содержанию. И, наконец, это не означает разделения веры и литургии на две различных «сущности», содержание и значение которых должны быть поняты с помощью двух разных и независимых средств исследования, как в современном богословии, где изучение литургии составляет особую область или дисциплину: «литургику». Это означает то, что leitourgia Церкви, термин гораздо более понятный и адекватный, чем «богослужение» или «культ», это полная и адекватная «эпифания» — выражение, проявление, исполнение того, во что Церковь верит, или того, что составляет ее веру. Это подразумевает органичную и сущностную взаимозависимость, в которой один элемент, вера, хотя и является источником и причиной второго, литургии, существенным образом нуждается в ней для своего само осознания и само исполнения. Ведь это именно вера рождает и «формирует» литургию, но литургия, в свою очередь, исполняя и выражая веру, «свидетельствует» о вере и таким образом является ее истинным и адекватным выражением и нормой: lex orandi est lex credendi.
Но тогда литургическое богословие — и здесь не может быть преувеличения — это не часть богословия, не «дисциплина», которая, рассматривая литургию как свой особый предмет, имеет дело с литургией «самой по себе», но, прежде всего, попытка осознать «богословие» как то, что проявляется в литургии и через нее. Я утверждаю, что существует радикальная и поистине непреодолимая разница между этими двумя подходами к литургическому богословию, задача которого очевидным образом зависит от того, какой из них мы выберем.
При первом подходе, который и Дом Ботт и В. Жардин Грисбрук считают моим, рассматривается специфическая «сущность» литургии в целом или же каждого из ее основных элементов: таинств, Божественной литургии, циклов богослужения и т. д. В этом случае литургия понимается прежде всего, а на самом деле исключительно, как богословие литургии, как поиск последовательного богословия богослужения, которому, как только оно будет сформулировано, литургия должна будет «последовать», в случае необходимости, посредством литургической реформы.
На данном этапе я могу только настойчиво утверждать, что отрицание этого подхода, уверенность в том, что он является неправильным и пагубным и для литургии, и для богословия, является, без всякого преувеличения, основным побуждением моей работы. В подходе, который я отстаиваю каждой строчкой, которую я когда–либо написал, вопрос, обращенный литургическим богословием к литургии и ко всему литургическому преданию — это вопрос не о литургии, но о «богословии», т. е. о вере Церкви, выраженной, переданной и сохраненной в литургии. Здесь литургия рассматривается как locus theоlogicus par exellence, ибо в этом ее настоящее предназначение, ее leitourgia в первоначальном значении этого слова — выявлять и исполнять веру Церкви, и выявлять ее не частично, не «дискурсивно», а как живую полноту и соборный опыт. И именно потому, что литургия есть эта живая полнота и этот соборный опыт веры Церкви, она есть истинный источник богословия, условие, которое делает его возможным. Потому что если богословие, как утверждает Православная церковь, не является простым рядом более или менее индивидуальных толкований той или иной «доктрины» в свете и посредством форм той или иной «культуры» или «ситуации», но попытка выразить саму Истину, найти адекватные разуму и опыту Церкви слова, то у него неизбежно должен быть свой источник, в которым вера, разум и опыт Церкви имели бы свое живое средоточие и выражение, где вера в обоих важнейших смыслах этого слова — как Истина, данная в откровении, и как Истина принятая и «переживаемая», имела бы свою эпифанию, и именно в этом и заключается функция литургии (leitourgia).
Отсюда должно стать ясным, что та трагедия, о которой я говорю и о которой скорблю, заключается не в каком–либо частном «дефекте» литургии — и Бог знает, что таких дефектов было много во все времена, — но в чем–то гораздо более глубоком: в разделении между литургией, богословием и благочестием, разделении, которое характеризовало послесвятоотеческий период истории нашей Церкви и которое изменило — не веру и не столько литургию — но богословие и благочестие. Другими словами, кризис, который я пытаюсь анализировать, это кризис не литургии, но ее понимания — в ключе ли послесвятоотеческого богословия или в ключе более позднего, но считающегося традиционным, литургического благочестия. И именно потому, что корни кризиса скорее богословские и духовные, нежели литургические, никакая литургическая реформа сама по себе и сама в себе его не разрешит.
Возьмем, например, органичные, и для ранней церкви самоочевидные, связь и взаимозависимость внутри lex orandi Дня Господня, Евхаристии и Экклесии (собрания верных как «церкви»). Если это было самоочевидным и настолько центральным, что действительно сформировало литургическую традицию Церкви, то потому, что это было вместе и выражением, и исполнением чего–то одинаково центрального и существенного для веры Церкви: единства и взаимозависимости в этой вере космологического, эсхатологического и экклезиологического «опытов». Оно было рождено из христианского видения и опыта Мира, Церкви и Царства и из их фундаментальных взаимоотношений. Теперь ясно, что, с одной стороны, эта связь до сих пор литургически существует, но настолько же очевидно, что, с другой стороны, это не понимается и не переживается так, как это переживалось и понималось в ранней Церкви. Почему? Потому что известное богословие и известное благочестие, сформированное этим богословием, навязав свои категории и свой собственный подход, изменили и наше понимание литургии, и наш литургический опыт. В нашем конкретном случае они сделали это, лишив ее этой «связи» космологического, эсхатологического и экклезиологического значений и оттенков. Связь эта сама по себе осталась частью lex orandi, но перестала быть как–либо связана с lex credendi, и уже не рассматривается как богословский datum, и ни один богослов ни разу не удосужился упомянуть ее как имеющую хоть какое–то богословское значение, как открывающую какой–то «опыт» Церкви о себе самой, о Мире и Царстве Божием. Таким образом, День Господень превратился всего–навсего в христианский вариант субботы, Евхаристия стала одним из «средств получения благодати», а Церковь — институтом, где таинства есть, но который не сакраментален по самой своей природе и «устроению». Но тогда может возникнуть вопрос: какая литургическая, т. е. внешняя, реформа способна восстановить этот опыт, вернуть изначальное значение этой «связи»? Она все еще здесь, с нами. Она все еще является нормой, мы же ее не видим. Она звучит в каждом слове Евхаристии — мы же ее не слышим. Как будто кто–то одел на наши глаза очки, сделавшие нас слепыми к очевидному, и вставил в наши уши слуховые аппараты, сделавшие нас глухими к самому явственному.