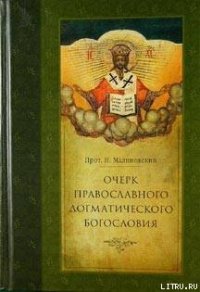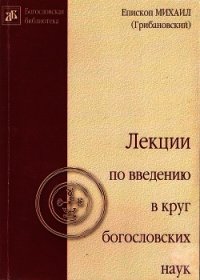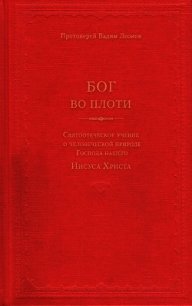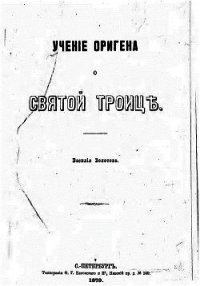Статьи (СИ) - Протоиерей (Шмеман) Александр Дмитриевич (электронная книга txt) 📗
Только в свете такой эсхатологии мы можем понять изначальный символизм литургии, который я назвал «эсхатологическим» и который служит отправным пунктом и принципом всего последующего литургического развития. Существенным свойством (я бы сказал, особенностью) этого эсхатологического символизма является не просто реализм присутствия в знаке знаменуемой им реальности — такой символизм, как мы видели, утверждает и св. Максим и другие представители символизма, названного нами «мистериологическим». Суть эсхатологического символизма в том, что он просто отрицает всякое различие между знаком и знаменуемым. Для святого Максима и тем более для позднейшего мистериологического символизма весьма значимо это различие между знаком и знаменуемым, ибо, по их мнению, те литургические действия, которые мы совершаем сегодня, обнаруживают, сообщают или просто изображают действия, совершаемые в прошлом, настоящем или будущем кем–то иным — Христом, апостолами или ангелами. Следовательно, в этой перспективе, хотя литургический обряд входа совершаем мы, входящие, но этот вход символизирует явление Христа. Знак отличается от реальности, которую он являет или представляет. Однако это прямо противоположно тому, что действительно содержится в знаках литургии. Весь смысл эсхатологического символизма в том, что знак и знаменуемое есть одно и то же. Можно сказать, что литургия есть то, что происходит с нами. Литургический вход — это наш, вернее, Церкви, вход на Небеса. Мы не символизируем присутствие ангелов, мы действительно присоединяемся к ним в их непрестанном славословии Бога. Дары хлеба и вина, которые мы предлагаем Богу, есть наша собственная жертва; вся литургия есть восхождение Церкви к трапезе Христовой в Его Царстве так же, как и Евхаристические Дары, освященные Святым Духом, есть Тело и Кровь Христовы. Мы совершаем все это и являемся всем этим, потому что мы во Христе, потому что сама Церковь есть наш вход, наш переход в новый эон, дарованный нам воплощением, смертью, воскресением и вознесением Христа.
Недостаток времени не позволяет мне показать, что именно этот эсхатологический опыт Церкви сформировал и предопределил все развитие христианской литургии, и не только таинств, но также и литургического круга времени, т. е. года, недели и дня. Даже в наши дни, после столь сложного многовекового развития, византийский Типикон будет оставаться непонятным до тех пор, пока мы не узнаем единственный ключ к его сложным правилам, предписаниям и рубрикам — эсхатологический опыт ранней Церкви, например, опыт воскресения как восьмого дня, дня за пределами семи дней творения и потому за пределами мира падшего, дня нового творения, в котором мы участвуем в евхаристическом восхождении; опыт Пасхи, позднее распространившийся на другие праздники, как перехода в радость Царства Божия; по сути, это опыт всего богослужения, или, в соответствии с излюбленной византийской формулой, Неба на земле.
Главное же, что я хотел сказать: эсхатологический символизм остается, несмотря на все богословские, мистические или изобразительные интерпретации и объяснения, основополагающим символизмом византийской литургии. Когда по прочтении всех бесчисленных толкований мы возвратимся от «богатого символизма», который они усматривают в византийском богослужении, к самой литургии, к свидетельству ее молитв и обрядов, ее ordo и ритму, мы сможем пережить опыт духовного освобождения. Ибо мы откроем подлинное литургическое богословие, то есть богословие, для которого литургия не «объект», но сам источник. Другими словами, мы вновь откроем позабытую истину древнего изречения: lex orandi lex est credendi.
Пер. с английского свящ. А. Дудченко под редакцией И. Мялковского и Ю. Вестеля.
Таинство и символ
1
Основная трудность, с которой сталкивается православный христианин, когда речь идет о таинствах, — необходимость выбирать между разными пластами своей богословской традиции. Если он остановится на более близком нам времени и более официальном «школьном богословии» («theology of manuals»), которое стало складываться в православных богословских школах, начиная с XVI в., его представления будут, конечно, очень сходны с любым латинским «De sacramentis». От общего определения таинств как «видимых средств невидимой благодати» он перейдет к различению в них «формы» и «вещества», к установлению их Христом, к их числу и классификации и, наконец, к их должному совершению как условию их действенности. Однако сегодня все больше православных богословов признают тот факт, что такой подход к таинствам, хотя он и был общепринятым и ему обучали на протяжении нескольких веков, имеет очень мало общего с истинной традицией Восточной церкви. Он видится, скорее, как одно из наиболее прискорбных последствий и проявлений «псевдоморфозы», которую претерпело православное богословие с конца эпохи патристики, когда трагические условия церковной жизни вынудили православных «ученых мужей» некритически воспринять западные богословские категории и систему взглядов. Результатом этого стало сильно ориентированное на Запад богословие, традиции которого сохранялись (и в известной степени сохраняются поныне) в духовных учебных заведениях. В России, например, богословие преподавалось на латыни вплоть до 40–х годов XIX века! «Западное пленение» православного богословия решительно осуждалось лучшими богословами последнего столетия, и сегодня существует представительное движение, направленное на восстановление нашим богословием своих исторических корней и методологии. Возврат к св. отцам, к литургическим и духовным традициям, которые по существу игнорировались «школьным богословием», начинает приносить свои плоды. Этот процесс, тем не менее, находится еще в своей начальной стадии, и в области богословия таинств еще почти ничего не сделано, что означает, что любая попытка «восстановления» и «возрождения» неизбежно будет здесь лишь предварительной и пробной.
Первоочередная задача состоит, таким образом, в том, чтобы восстановить истоки, поставить вопросы, которые в рамках устаревшего школьного богословия не только не могли найти ответа, но даже не могли быть сформулированы.
2
Что такое таинство? Отвечая на этот вопрос, западное и «прозападное» постпатристическое богословие помещает себя в рамки ментального контекста, который значительно, если не радикально, отличается от существовавшего в ранней церкви. Я говорю ментальный, а не интеллектуальный, так как различие здесь принадлежит уровню, намного более глубокому, чем просто интеллектуальные положения или богословская терминология. Богословие эпохи св. отцов, несомненно, было не менее «интеллектуальным», чем схоластика, а что касается терминологии, то именно ее непрерывная преемственность, использование тех же слов, как бы ни изменялось их значение, могла сделать неявным разрыв между двумя типами богословия таинств.
Внешне или формально это изменение состояло прежде всего в новом подходе богословия таинств к самому объекту своего исследования. В ранней церкви, в трудах св. отцов таинства, с тех пор как их стали пытаться систематически интерпретировать, всегда объяснялись в контексте своего непосредственного литургического совершения, когда объяснение по существу являлось экзегезисом самой литургии со всей ее обрядовой сложностью и точностью. Средневековое «De sacramentis», однако, стремится с самого начала отделить таинство от его литургического контекста, найти и выразить в понятиях максимально точно его суть, т. е. то, что отличает его от не–таинства. Таинство в определенном смысле начинают противопоставлять литургии. Оно, конечно, имеет свое богослужебное выражение, свой «знак», который относится к его сути, но этот знак рассматривается теперь как онтологически отличный от всех других таинств, символов и обрядов церкви. И из–за этого отличия только знак таинства становится во всем богослужении единственным заслуживающим внимания богословов объектом. Можно, скажем, читать и перечитывать прекрасные комментарии к таинствам в «Summa» св. Фомы, так ничего и не узнав об их литургическом совершении. Можно также скрупулезно изучить практически все, что есть в православии и католичестве о священстве, не встретив ни одного упоминания о традиционной и органичной связи между рукоположением и евхаристией. С точки зрения историков богословия, такое изменение связано с тем, что они называют развитием «научного богословия» и «более точных» методов в нем. На самом деле, однако, это изменение, будучи далеко не чисто внешним, имеет корни в глубокой трансформации философских взглядов, по существу, всего богословского мировоззрения. И если мы хотим установить первоначальное значение таинства, нам надо прежде всего попытаться понять природу этой трансформации.