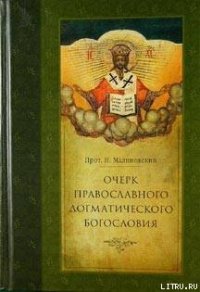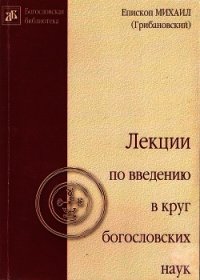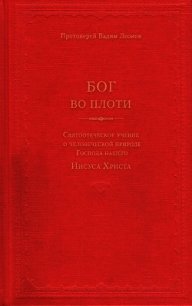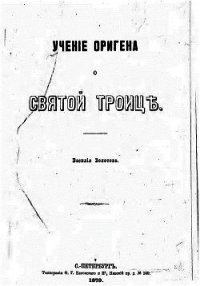Статьи (СИ) - Протоиерей (Шмеман) Александр Дмитриевич (электронная книга txt) 📗
Вот почему те, которые думают о церковных службах только как о каких–то обязательствах, которые всегда спрашивают о «минимальных требованиях» («Как часто мы должны ходить в церковь?», «Как часто мы должны молиться?»), никогда не смогут понять настоящего значения богослужений, переносящих нас в иной мир — в присутствие Самого Бога! — но переносят они нас туда не сразу, а медленно, благодаря нашей падшей природе, потерявшей способность естественно входить в этот иной мир.
И вот когда мы испытываем это таинственное освобождение, легкость и мир, печальное однообразие богослужения приобретает новый смысл, оно преображено; оно освещено внутренней красотой, как ранним лучом солнца, который начинает освещать вершину горы, когда внизу, в долине, еще темно. Этот свет и скрытая радость исходят из частого пения «Аллилуйя», от общего настроения великопостных богослужений. То, что казалось сперва однообразием, превращается теперь в мир; то, что сперва звучало печалью, воспринимается теперь как самые первые движения души, возвращающейся к утерянной глубине. Это то, что возвещает нам каждое утро первый стих великопостного «Аллилуйя»: От нощи утренюет дух мой к Тебе, Боже, зане свет повеления Твоя.
Печальный свет: печаль моего изгнания, растраченной жизни; свет Божьего присутствия и прощения, радость возродившейся любви к Богу и мир возвращения в Дом Отца. Таково настроение великопостного богослужения; таково его первое соприкосновение с моей душой.
Свобода в Церкви
1
Получив приглашение подготовить сообщение на тему «Свобода в Церкви», я подумал сперва, что из всех возможных докладов именно этот следовало бы поручить не православному, а кому–нибудь из западных христиан. Ибо горячие споры по поводу свободы и авторитета — это специфически западные споры и даже, можно сказать, своего рода крест Запада на пути его интеллектуального и духовного развития. Православный Восток не принимал в них деятельного участия — отчасти потому, что в период наибольшего их обострения — во времена Реформации и Контрреформации — пути Востока и Запада окончательно разошлись; отчасти потому, что самая суть этих споров, как мы увидим, осталась чужда духовной и интеллектуальной традиции Православия. Стоит ли, думалось мне, встревать в дискуссию по проблеме, которая является, так сказать, «чисто западной»? Но, поразмыслив, я все же решил принять предложение, и именно по той самой причине, какой хотел сначала мотивировать свой отказ. Как знать, не поможет ли сама свобода от западных форм и установок мышления если не решить проблему, то по крайней мере указать иной, приемлемый для христианского сознания путь ее решения?
Попытку подойти к решению этого вопроса, взглянуть на проблему свободы в Церкви с принципиально иной, чем традиционно–западная, точки зрения, я и осмеливаюсь со всем возможным для меня смирением предложить в настоящем докладе.
Первый мой вопрос связан с самой формулировкой проблемы, как отражает ее наш заголовок «Свобода в Церкви». Сразу же бросается в глаза заложенная в ней дихотомия: предлог «в» наводит на мысль, что «свобода» и «Церковь» — различные понятия, которые могут сопрягаться, но даже и в сопряженном и взаимопримиренном состоянии остаются вполне чуждыми друг другу. Пути и методы этого сопряжения могут, в свою очередь, различаться в зависимости от того, что выдвинуто на первый план — свобода или Церковь. Можно высказываться за большую свободу, подчиняя ее тем не менее Церкви; можно принимать Церковь, подчиняя ее свободе. В обоих случаях, однако, свобода и Церковь мыслятся и остаются противоположными понятиями, и проблема в том, чтобы найти оптимальную форму их соотнесения и сбалансирования. И такова была — по крайней мере до нынешнего времени — западная формулировка проблемы в двух основных ее конфессиональных редакциях: католическая (с упором на Церковь) и протестантская (с упором на свободу).
Но, быть может, самая первая задача богословского исследования заключается именно в том, чтобы оспорить и пересмотреть главные предпосылки этой формулы. Не явились ли они итогом того специфического развития — духовного, богословского, церковного, — в ходе которого свободу стали мыслить и определять в понятиях авторитета, а другими словами, видеть в них, «взаимообосновывающие» элементы и равно необходимые полюса некоей сущностной дихотомии? Свобода понимается здесь как некое отношение к авторитету, и ее определение, как и переживание, зависит в конечном счете от определения соответствующего авторитета, ибо без этого авторитета она лишается всякого смысла. Какую толику свободы готов уделить данный конкретный авторитет тем, кто ему подчинен? — вот, на мой взгляд, предельно упрощенный конечный вопрос, к которому сводится проблема при такой ее постановке. И определяется ли эта свобода как свобода ОТ (власти, контроля, руководства, авторитетных мнений) или как свобода ДЛЯ (самовыражения, богословствования, действия и т. п.), по–прежнему зависит от понятия и определения авторитета и в решающем смысле обусловлено им.
Но дихотомия эта, коль скоро мы хотим увидеть проблему свободы и Церкви в истинном свете, должна быть поставлена под сомнение и отвергнута. А отвергнуть ее необходимо потому, что это на самом деле саморазрушительная дихотомия. Доведенная до своего логического предела, она обращает в ничто те самые понятия, которые предполагала обосновать и определить. И если Церковь–институт осознает это крайне медленно и все еще мечтает об оптимистическом компромиссе, при котором некоторая разумная свобода не оспаривает и не подрывает некий разумный авторитет (благодаря санкционированному тем же авторитетом размежеванию их сфер), трагическая диалектика свободы, прочерчивающая реальныи духовный путь так называемого «христианского мира» и, в свою очередь, обусловленная трагедией свободы в Церкви, призвана развенчать эти грезы и заранее осудить их.
От времен Сен–Жюста, с его теорией вынужденного цареубийства, через Ницше и Достоевского до Бердяева, Камю, Сартра и творцов богословия «смерти Бога» человечеству открывается все та же фундаментальная истина: если свобода как понятие и опыт утверждена и определена через понятие и опыт авторитета, то такая свобода окончательно реализует себя лишь в «убийстве», в уничтожении самого авторитета. «Этот человек должен либо царствовать, либо умереть!» — восклицал Сен–Жюст, указывая на короля, а Ницше, вкупе с эпигонами утверждавший, что Богу должно умереть, если человеку суждено быть свободным, делал лишь очередной и последний шаг. Как совершенно точно заметил Жозеф де Местр, человек, однажды вкусивший яда свободы, не может остановиться на полпути и до тех пор, пока жив авторитет, нет и свободы. В абсолютных понятиях формула: «Чем больше свободы, тем меньше авторитета» — не отличается от другой: «Чем больше авторитета, тем меньше свободы». Ибо свобода отвергает не ту или иную меру, а сам принцип авторитета: какова бы ни была его мера, он неизбежно подрывает и разрушает свободу. И вот, всеблагой Царь «умер», и Ницше предпочитает «грядущую ночь, и еще большую ночь» безбожного мира этому источнику и санкции всякого авторитета.
Но неумолимая логика всей дихотомии «свободы–авторитета» такова, что свобода, в интересах самореализации уничтожающая авторитет, уничтожает и самое себя. И происходит это не потому, что свобода вне своей противоположности и борьбы с ней остается пустой и бессмысленной формой, но и потому еще, что она не может по–настоящему осуществиться, покуда жив последний авторитет, имя которому — смерть. Вечной заслугой Достоевского остается образ Кириллова в «Бесах», являющий нам неизбежную связь крайней, беспредельной свободы и самоубийства: «Кто смеет убить себя, тот Бог».
Итак, чтобы стать Богом, необходимо убить себя. И не случайно Томас Альтицер, один из самых глубоких и последовательных представителей богословия «смерти Бога», восторженно рекомендует Кириллова как положительного героя и восхваляет Достоевского, якобы запечатлевшего в нем «современный образ Христа» [157]. «Какое удивительное совпадение, — — пишет он, — что Достоевский <…> в своем изображении Кириллова предвосхитил радикально–современное осмысление образа Христа» [158]. С неменьшей симпатией цитирует он и писателя, для которого высшая победа жизни проявляется в ее произволении умереть.