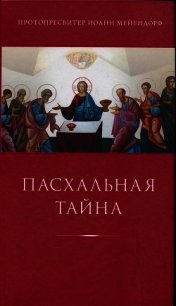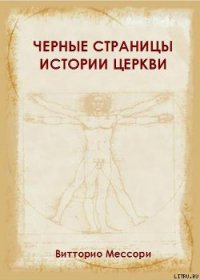Церковь в истории. Статьи по истории Церкви - Мейендорф Иоанн Феофилович (читать книги без сокращений txt) 📗
На этой экклезиологии основан институт соборов, которые в течение многих столетий будут регулировать жизнь христианской Церкви.
Для нашего анализа «авторитета» в Церкви особенно важны следующие замечания о природе соборов.
1. Соборы были собраниями епископов, созванных для решения той или иной специфической проблемы церковной жизни (хиротонии новых епископов для овдовевших кафедр и обсуждения вероучительных или дисциплинарных вопросов), и не были постоянной и узаконенной властью над Церковью. Эта изначальная функция соборов явственно отличается от концепции западных концилиаристов XV столетия, видевших в соборе некий управляющий орган, вытесняющий и заменяющий папу. С самого начала, однако, собор, по существу, мыслился в библейской категории «свидетельства», т. е. согласие по обсуждаемому вопросу рассматривалось как знак воли Божией, который Церковь должна принять осмотрительно, сопоставляя его с другими «знаками» – Священным Писанием, Преданием и иными соборами.
2. По основным вопросам соборы не руководствовались правилом большинства [42]. Меньшинство должно было либо согласиться с принятыми постановлениями, либо ожидать отлучения. В этом проявлялась не простая «нетерпимость», а уверенность, что Дух Святой действительно направляет Церковь и что противоборство Духу несовместимо с членством в Церкви.
3. Отсутствие юридических гарантий, защищающих «права меньшинства» в соборных постановлениях, не означало, что большинство ех sese [43] непогрешимо. История знает множество «лжесоборов», позже отвергнутых Церковью, одобрившей взгляды осужденного меньшинства или даже отдельных свидетелей истины. Случаи со свт. Афанасием [Великим] или прп. Максимом Исповедником – хорошие тому примеры. Соборное решение должно было быть «принятым» всей Церковью, чтобы считаться истинно соответствующим Преданию. Это «принятие» не было народным референдумом или «демократией» мирян, оппозиционных клерикальной «аристократии». Оно просто предполагало, что никакой авторитет не упраздняет свободу человека верить или не верить. Любое соборное постановление само по себе содержит риск веры и не должно отрицать возможность подобного риска у других. Халкидонский Собор так и не был «принят» огромными массами восточных христиан: как халкидониты, так и нехалкидониты пошли на «риск» раскола во имя того, что было для них христианской истиной. «Принятие» собора не следует понимать в юридических категориях; оно просто придает собору «знак» авторитетности, подразумевая, что единственным и высшим авторитетом в христианской Церкви является только Дух Святой.
4. Союз с Римской империей предполагал сотрудничество между государством, управляемым законом, и Церковью, внутренняя структура которой была не правовой, а сакраментальной. Поэтому государство постоянно стремилось заставить Церковь самоопределяться в юридической терминологии, понятной римским властям. Постепенно чисто правовые элементы стали проникать как в процедуру, так и в постановления соборов. Однако в том, что касается основы основ – вопросов веры, императорам так никогда и не удалось принудить раннюю Церковь выражать себя, подобно римскому сенату, четко и упорядоченно, как того требовал закон. Однако в глазах государства «вселенские соборы» должны были выполнять именно эту функцию: снабжать императора ясным определением веры, которому затем императорским указом придавалась бы сила и обязательность закона. Но в действительности церковное сознание никогда не подстраивалось под такую процедуру: соборы отвергались, несмотря на то что были утверждены императорами. А то, что мы теперь называем «вероучительным развитием», оставалось процессом органическим, в котором элементы исторические, политические, социальные или культурные играли известную роль, но единственным признанным авторитетом оставался Дух Святой.
5. Подлинная сущность «вероучительного развития» ясно различима в постановлениях тех соборов, которые были в конце концов признаны «вселенскими». Ни один собор никогда не претендовал на провозглашение «нового догмата». Напротив, каждый утверждал, что его постановления не расходятся с прежними определениями (ср., например, 7-е правило Эфесского Собора 431 г.). Халкидонские отцы во вступлении к своему знаменитому определению утверждают, что Никейский Символ веры («этот мудрый и спасительный символ благодати Божией») «достаточен был бы для совершенного познания и тверждения благочестия… <…> потому что об Отце и Сыне и Святом Духе научает в совершенстве, и воплощение Господа представляет верно принимающим». Новое определение понадобилось только потому, что «старающиеся отвергнуть проповедь истины породили своими ересями пустые речи» [44]. Другими словами, вероучительное определение рассматривается только как мера исключительная и крайняя, как средство против ереси, а не как самоцель. Этим оно отличается от истины, которая есть «апостольская», т. е. явно или подразумеваемо существующая в сознании Церкви с апостольских времен и основанная на апостольском свидетельстве.
Все это означает, что в Церкви авторитет не подавляет и не умаляет свободы. Он скорее призывает к ней, утверждая верность Бога Своему Новому Завету и возвещая, что, согласно этому Завету, Бог действительно непрестанно пребывает в Церкви, что Его сакраментальное присутствие предполагает и присутствие Его в Истине, а встреча с новой жизнью в таинстве Крещения делает возможным и достижимым истинную причастность Богу. Христианское понимание авторитета исключает слепое послушание и предполагает свободное и ответственное участие всех в общей жизни Тела. Однако сакраментальная природа Тела определяет и разнообразие служений. В частности, на епископате лежит обязанность соблюдать историческую преемственность и тождественность христианского Благовестия («Предания»), так же как и всеобщее вселенское единение всех в единой Церкви («единство веры» и общение в таинствах).
3. Антропологическое измерение свободы
Быть «призванным к свободе» (ср.: Гал. 5:13) – величайшее, по св. апостолу Павлу, преимущество христиан. Что предполагает, однако, что они «Духом водятся» (ср.: Гал. 5:18). То, что Дух и свобода не противоречат друг другу, а друг друга подразумевают, связано, особенно в греческой святоотеческой литературе, с понятием «причастности» божественной жизни, которая, как мы уже отметили, естественно следует из христианского понимания авторитета.
Уже трихотомист Ириней видел человека состоящим из плоти, души и Святого Духа [45]. Этот взгляд, который кажется странно пантеистическим, если сопоставить его с более поздними богословскими категориями, на самом деле представляет динамическую концепцию человека, исключающую статическое понятие «чистой природы». Человек создан для участия в жизни Бога; это и отличает его от животных. Эта мысль выражена в библейском повествовании о создании Адама «по образу Божию». Греческое святоотеческое учение об «обожении» (θεωσις) человека, используя платоновскую философскую терминологию для передачи той же мысли, также предполагает, что ни божественная природа, ни природа человеческая не «замкнуты» в себе. Если Бог всегда понимается как полностью трансцендентный и природа Его как полностью «иная», настолько, что даже категории бытия или существования к Нему неприменимы в том смысле, как они применяются к сотворенным существам, то Он в то же время всегда мыслится как свободно приобщающий человека к тому, что принадлежит собственно Ему – Своей собственной жизни. Человек и был создан именно как вместилище этой божественной жизни, без которой он перестает быть подлинно человеком. Когда он утверждает себя как «автономное» существо и замыкается в «мирской» жизни, тогда-то и теряет не какую-то внешнюю «благодать» или «религию», но самое свое бытие как человека. Первородный грех означает не просто внешнее наказание человека, лишение его «превышеестественной» благодати, но извращение человека, который – как человек – отказывается от своей судьбы и предназначения.