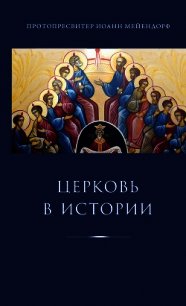Бытие как общение. Очерки о личности и Церкви - Зизиулас Иоанн (полная версия книги .TXT) 📗
Итак, у античной философии не было средств избавить бытие человеческой «индивидуальности» от ущербности и выстроить онтологию так, чтобы личность стала абсолютным понятием. Причины этого глубоко укоренены в особенностях античного мышления. Древнегреческая мысль всегда была привержена своему основополагающему принципу. Согласно ему, подлинное бытие есть единство в противоположность множественности отдельных вещей [4], поскольку существование последних в итоге необходимо восходит к бытию «единого». Как следствие, всякая особенность («дифференциация») или случайность («акциденция») должна расцениваться как стремление к «не-бытию», разрушению или «отпадению» от бытия [5].
Этот онтологический монизм, характеризующий греческую философию с момента ее появления [6], приводит ее к представлению о космосе, т. е. о замкнутом гармоническом сосуществовании вещей. Даже Бог не может выйти за рамки этого онтологического единства, чтобы вести с ним свободный диалог «лицом к лицу» [7]. Он связан с миром отношением онтологической необходимости или через творение, как в платоновском «Тимее» [8], или через Логос стоиков [9], или посредством «эманаций», как в «Эннеадах» Плотина [10]. Так греческая мысль выстраивает величественную идею «космоса», т. е. единства в гармонии, мира большой внутренней динамики и эстетической полноты, воистину «прекрасного» и «божественного». Однако в таком мире не происходит ничего непредвиденного, там нет места свободе как верховному и неограниченному условию бытия [11]: все, что угрожает космической гармонии и не объяснимо разумом (логосом), который соединяет собой все вещи, приводя их к гармоническому единству [12], – отвергается и осуждается, и человек здесь не исключение.
Положение человека в этом мире, пронизанном единством, гармонией и разумом, становится главной темой древнегреческой трагедии. Причем именно здесь (совпадение?) начинает использоваться термин «лицо» (πρόσωπον). Слово это употреблялось, конечно, и за пределами театра. Первоначально оно обозначало часть головы «ниже черепной коробки» [13] в прямом анатомическом смысле [14]. Но как и почему это значение так быстро соединилось с театральной маской (προσωπεΐον) [15] и какая связь между маской актера и личностью? В том ли только дело, что маска в каком-то смысле напоминает о реальном человеке [16], или следует искать более глубокого объяснения взаимосвязи этих двух значений слова «лицо»?
В театре, особенно в трагедии, конфликт, который разворачивается между человеческой свободой и разумной необходимостью космической гармонии, как ее понимали древние греки, приобретает особый драматизм. Именно в театре человек стремится стать «личностью», восстать против этого гармонического единства, подавляющего его своей моральной и логической необходимостью [17]. Здесь он воюет с богами и с собственной судьбой, грешит и переходит границу; но и здесь же, по стандартным законам античной трагедии, он постоянно убеждается в том, что в конечном итоге невозможно избегнуть судьбы, нельзя безнаказанно презирать волю богов и нельзя грешить без последствий. Так формируется взгляд, типичное выражение которого мы находим в «Законах» Платона: не мир существует ради человека, но человек ради мира [18]. Его свободе положены строгие границы, у него попросту нет никакой свободы, поскольку «ограниченная свобода» – это противоречие в понятиях. Поэтому «личность» человека есть не что иное, как «маска» – нечто, лишенное свойства «ипостаси», т. е. онтологического содержания.
Это одна сторона понятия «просопон». Но есть и другая, связанная с представлением о человеке в маске – как актере, так и зрителе. Речь идет об оттенке свободы, «ипостасности», своего рода самоидентичности, отрицаемой рациональной и нравственной гармонией мира. Естественно, что человек из-за своей маски почувствовал горечь от последствий своего мятежа. Но эта же маска помогла ему почувствовать себя личностью, пусть и на короткое время, так как он понял, что значит быть свободным и неповторимым существом. Маска не отделена от личности, но их взаимоотношения трагичны [19]. В античном мире стать личностью означало что-то прибавить к своему существованию, поскольку «личность» не может совпадать с собственной «ипостасью». Последняя означает прежде всего «природу», или «субстанцию» [20]. Понадобится еще не один век, прежде чем греческая мысль научится идентифицировать «ипостась» с «личностью».
Аналогичные выводы напрашиваются и по рассмотрении идеи «личности» в древнеримской мысли. Специалисты спорят о степени влияния смысла греческого πρόσωπον на содержание латинского термина persona и о том, имеет ли он греческое или иное происхождение [21]. Если отвлечься от проблем этимологии слова, то в интерпретации его значения римское мышление не особенно расходилось с греческим, по крайней мере вначале. В своих антропологических коннотациях латинское persona больше своего греческого эквивалента опиралось на идею конкретной индивидуальности [22], хотя его употребление в общественной и позднее [23] в юридической сфере всегда сохраняло оттенок значения греческого πρόσωπον или προσωπεΐον, связанный с театральной ролью: persona — это роль, которую люди играют, вступая в социальное или юридическое взаимодействие, т. е. это субъект моральных или юридических отношений, который ни индивидуально, ни социально не соотносится с онтологическим измерением личности.
Такое понимание личности фундаментальным образом связано с общим представлением о человеке в Древнем Риме. Римская мысль, в основе своей ориентированная на социум и организацию, направлена не на онтологию, т. е. проблему бытия человека, а на отношения людей между собой. Это прежде всего способность создавать различные корпорации, заключать договоры, учреждать коллегии, организовывать жизнь государства. Очевидно, что здесь нигде не заметно никакого онтологического содержания. Речь идет о придатке к конкретному факту бытия, который – нисколько не колебля оснований римской ментальности – позволяет одному и тому же человеку действовать под более чем одной «про-сопон», выступать в разных ролях. В этом случае свобода и непредсказуемость также оказываются чужды понятию личности. Свобода принадлежит группе или, в конечном счете, государству – всеобщей структуре человеческих отношений, которая самостоятельно определяет собственные границы. И точно так же, как в случае с греческими понятиями πρόσωπον или προσωπεΐον, латинская persona одновременно и отрицает, и утверждает человеческую свободу: человек как persona подчиняет свою свободу организованному целому, но одновременно убеждается в существовании средств, возможности и самого вкуса свободы, подтверждая этим свою идентичность. Существование этой идентичности – живого компонента личности, который делает каждого человека самим собой, позволяя людям отличаться друг от друга, – гарантируется и поддерживается государством или другой структурой. Даже когда авторитет государства оспаривается и вызывает бунт, мятежник, которому посчастливилось избежать наказания за брошенный вызов, сам попытается найти такую законную политическую силу, такую государственную форму, которая предоставит ему новую идентичность, подтверждение его самости. Феномен политизации современного человека и повышение роли социологии в наше время не могут быть поняты без обращения к римскому понятию persona. Вот следствие доминирующей роли западного менталитета для современной цивилизации и результат слияния persona с греческим προσωπεΐον.