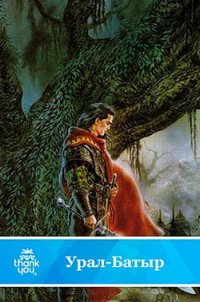Другой Урал - аль Атоми Беркем (лучшие книги без регистрации txt) 📗
Дружба — это просто иллюзия. Невозможно жить в одном мире двум его полновластным хозяевам, это же ясно. Кажется, мы тогда оба это поняли, потому что больше особо не водились; это тоже вышло как-то само собой.
Раз в месяц, или Как я перестал быть пионером
— Пидарасы, окошки хоть бы пооткрывали… — в бессильной злобе прошептал Вовка Найман, брызгая слюной и обдавая меня запахом зубного кабинета.
Я не ответил, изо всех сил стараясь удержаться на поверхности густого горчичного месива, дошедшего уже до подбородка. Сверху мою голову пекло и давило книзу тягучее многоголосое жужжание. С усилием повернувшись, я поднял взгляд на заросшие каменной пылью облупленные рамы высоких окон. Казалось, они тихонечко, но предельно серьезно рычат и всем своим видом отгоняют борзых открывальщиков — ой, не надо, товарищч, ой не стоит… Только вот цопни за неухватистый тырчик затекшего древней краской шпингалета — и мы сразу же сделаем его совсем скользким, и рука сорвется, обязательно, и ударится самой чувствительной костяшкой, а под ноготь вопьется острая и хрупкая как стекло краска… К тому же окна были забраны частой металлической сеткой с застывшими натеками в некоторых ячейках. Так что, если б даже удалось совершить немыслимое — выйти из строя и расковырять эту коросту между нами и улицей, то створки открылись бы только на два, ну край на три пальца, и свежего воздуха все равно бы не получилось; получилась бы тоненькая струйка, которую ни за что не ухватить обеими ноздрями, ее хватило бы лишь на сравнение, и стало бы только хуже.
В первом ряду отчаянный Шестопалов затеял какую-то игру. …На хер ему это надо… — раздраженно подумал я, чувствуя, как бешенство мелкой сыпью проносится по упревшему под тяжелой одеждой телу. — Вас еще, долбое-бое, не хватало… Пацаны нервно кидали друг другу что-то как бы опасное, кто-то вякнул, потерпев неудачу, кто-то поймал, народ шебутился и сокращался, как гусеница в муравейнике. Я закрыл глаза, желая провести в относительном покое хоть эти три-четыре секунды, пока эпицентр возни не достигнет моего места. Вот они и прошли. Странно, так долго тянулись и так быстро прошли… Оказалось, Шестопал пустил по рядам кусочек мела, и его теперь отбирали друг у друга, стараясь черкнуть по спине передним; передние извивались, шипя и оскаливаясь на задних. Резко дернувшись, я удачно выбил мелок из рук завладевшего им Остроумова и втянулся обратно, в свой личный кусок пустоты.
И есть в том строе промежуток малый; быть может, это место для меня-я-а-а-а-а… Да, заебавшие суки, для меня. Я пришел сюда, не спорил, не выеживался, не убежал. Хотя следующий раз не пойду по-любому. На хуй. Не пойду — и все. Так вот: я пришел и стою здесь, нюхаю вонь от этой вашей Киреевой, терплю справа этого ебнутого Остроумова. И все!!! Больше я ни на что не подписывался!!! Не лезьте ко мне. Отъебитесь от меня все. Не хочу.
Отворачиваясь от многоглазой, но близорукой сутолоки, тупо ищущей рядом со мной свой сраный мелок, я сочувственно мазнул взглядом по гневно дергающемуся на блеклом мартовском небе солнцу, стараясь не встретиться с ним глазами. Оно бесплодно пыталось как-то проникнуть к нам, в эту пыльную обувную коробку, наполненную беззвучным жужжанием, перетоптываньем сотен ног, фальшивым кашлем, сырым духом отопревших валенок, поганенькими учительскими духами, пресно-водянистым и каким-то опухшим запахом близкой смерти от неплохого, в общем-то, физика Ивана Матвеича, сзади отрыгивала яичным желтком Нинка Киреева, от которой вдобавок наносило ссаньем и кашей: у ее матери недавно родилась еще одна Киреева.
Когда бледные от непонятно откуда берущегося волнения старшеклассники внесли наконец Знамя Дружины, стало немного полегче. Хотя это как-то неправильно; давить не перестало ни капельки, просто после напряженного многовекового ожидания, спекающего некогда рассыпчатую массу отдельных людей в кроваво-дерьмовую запеканку из жира, тряпок и ненависти, любая перемена первые несколько секунд воспринималась как облегчение.
Но это только первые несколько взвизгов горна, звуками которого полагалось сопровождать появление этого студня на хлипкой соломине. Мне всегда в такие моменты было удивительно — как веснушчатый рыжий Кавалеров из седьмого класса удерживает на тоненькой крашеной палочке древка это угрожающе притаившееся существо, небрежно прикинувшееся величавым полотнищем с тяжко колышущимися складками.
Я покачнулся — в и без того горящее лицо ударила еще одна порция крови. Мне показалось, что я чайник и что я уже вскипел. Перед глазами, поверх ерзающей спины Полуянова, разбежались шипящие круги, похожие на покрытые инеем срезы говядины — такие же темно-красные с белым. Не знаю как, но мысль о говядине как-то враз перестроила меня, переложила все кирпичики, из которых я состоял, и я сразу понял все.
Даже не понял, а как бы увидел — этот битком набитый зал, в котором от влажного жара едва не взрываются лампочки под потолком, эту истерично-понурую массу в синем и черно-коричневом, с кровавыми пятнами галстуков, — до чего, кстати, похоже на развороченные горла; массу, согнанную сюда полумертвыми прозрачными тенями учителей, которые тоже мучаются от всего этого, но им проще — они даже не понимают, до чего ПЛОХО это все, что запросто можно не делать ТАК, но не делать ТАК не могут — что-то огромное, засевшее очень далеко, но прекрасно видящее тех, кто не слушается, заставляет их забиваться в эту просторную, когда никого нет, конуру и преть в этом бесконечно-тесном стоянии.
Я увидел, как прозрачное что-то отделяется от всех и сливается в толстый поток, становящийся по мере удаления от источника бурым, непрозрачным и упруго-резиновым. Этот бешено кружащийся поток сначала слепо отражается от одной стены, а потом набирается ума и находит слабую прореху в потолке, проносится в нее, сбивая с краев дыры невесомую цементную пыль, и выскакивает на волю, на свежий морозный воздух, поверх крыш в пухлых шапках чистого снега, уходит ввысь, в облака — и расслабляется только там, дымной струей вытягиваясь по ветру. И подлый угодливый ветер, усмехаясь гнилыми губами низких туч, суетливо несет его тому, кто все это устроил.
Таким образом, все это — и желеобразное существо, прикидывающееся Знаменем Дружины, и горячий вонючий пар вместо воздуха, и этот загадочный резиновый жгут — оказалось как-то хитро связано, но мне даже не хотелось понимать, ведь все это было направлено против меня. Нет, не против меня, конечно; против всех, но… С того момента, как я понял — против меня особенно.
Словно дождавшись, пока я все пойму, ВСЕ ЭТО навалилось на меня уже по-настоящему. Блин, я даже не догадывался, на какую противную жужжащую тяжесть ВСЕ ЭТО способно… Я плыл, как боксер от пропущенного удара, безвольно позволяя ЭТОМУ жрать себя, как кусок колбасы.
Не помню, как оно перегнуло палку, но что-то из его арсенала переборщило, стало слишком, и я едва не заорал на весь этот зал, наполненный фальшивой тишиной из задавленных голосов и недовольного сопения училок.
Подавляя рвущийся из горла вопль возмущения, я решил вспомнить что-нибудь хорошее, но ничего не вспомнилось, и чтоб на самом деле не заорать, быстро начал представлять, как выйду наконец из этого банного зала и не пойду на русский. Пош-шел он в жопу. Заметят — ну и хер с ними. Со всеми. Я пойду в раздевалку и возьму свое пальто. Вот так. Если уже будет звонок, то подымусь к самому выходу и постою, прислушиваясь, сколько надо. Чтоб никто не выцепил меня на выходе. Нет, я все сделаю как надо — сегодня мне попадаться нельзя. Только не сегодня. Сегодня я позволил вам столько, что могу не ходить в вашу сраную школу до самых каникул, вот так.
Я даже не заметил, как сделал шаг, другой, третий, мне как-то все не удавалось осмыслить оставшийся на сетчатке отпечаток удивленных блинов, повернувшихся к вышедшему из строя и Нарушившему.
Но задержавшийся сигнал все же добрался до мозга, и я, испугавшись почти до обосранных штанов, замер посреди зала, растерянно глядя на Старшую Пионервожатую, творящую советский зигхайль толстенькому коротышке Иодловскому, Главному Пионеру. Они как-то так удачно повернулись ко мне, что картинка Всего Этого сложилась окончательно.